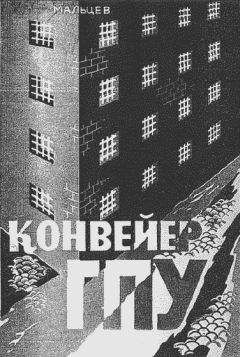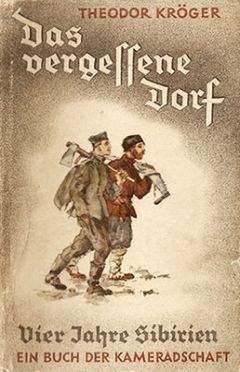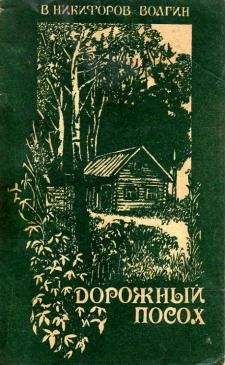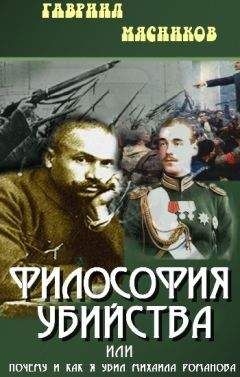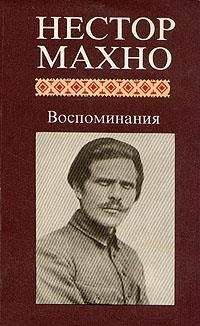Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Василий Шульгин: судьба русского националиста"
Описание и краткое содержание "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать бесплатно онлайн.
Василий Шульгин вошел в историю как фигура крайне противоречивая. И вместе с тем это был типичный представитель русской имперской элиты начала XX века. Будучи убежденным монархистом и националистом, он принял активное участие в попытках либерализации государственного управления, которые закончились заговором против царя и крушением империи. Шульгин принимал отречение от престола Николая II, входил в группу руководителей Февральской революции, участвовал в организации белогвардейского сопротивления Октябрьской революции, был членом правительств генералов Деникина и Врангеля, создал разветвленную разведывательную организацию, руководил редакциями газет, был ярким публицистом и писателем. Автор книг «Дни», «1920 год», «Три столицы», «Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» и др. В декабре 1944 года был арестован в Югославии армейской контрразведкой Смерш, осужден на 25 лет заключения за антисоветскую деятельность. После амнистии в 1956 году занимался литературной деятельностью, стал героем знаменитого фильма «Перед судом истории», консультировал ученых, деятелей культуры, литераторов — Александра Солженицына, Николая Яковлева, Марка Касвинова, Дмитрия Жукова, Николая Лисового, Илью Глазунова, Сергея Колосова, Фридриха Эрмлера, Андрея Смирнова и др.
Святослав Рыбас рассматривает жизненный путь Шульгина на фоне кризисных явлений российского исторического процесса, что делает эту книгу завершающей в ряду его работ — «Столыпин», «Генерал Кутепов», «Сталин», «Громыко», опубликованных в серии «Жизнь замечательных людей».
знак информационной продукции 16+
К началу XX века его банки имели 29 отделений в России, Германии, Франции, Нидерландах, Польше, Персии, через которые преимущественно велось финансирование экспортной торговли российским зерном. Большие интересы были у Полякова и на Востоке, в Персии и Средней Азии. Всего в поляковской группе кроме банков насчитывалось шесть торгово-промышленных компаний, одна страховая, пять транспортных.
Его успешную деятельность надо противопоставить московским промышленным группам Рябушинских, Гучковых, Коноваловых, Крестовниковых, Третьяковых, Морозовых, Прохоровых, которые выросли из ткацких мануфактур крестьян-староверов и развивались по классической схеме от производственной к финансовой деятельности. Московские «ситцевые капиталисты» тоже владели банками, заводами и фабриками, вели международную торговлю, но к спекулятивной практике Полякова относились критически.
Несмотря на свой талант, Лазарь Поляков был почти уничтожен экономическим кризисом 1899 года. Это произошло потому, что под акции подконтрольных предприятий он брал кредиты в собственных банках, на эти средства вел биржевую игру, скупал и перепродавал земли. (Впрочем, в пореформенный период все частные банки действовали крайне рискованно. Что касается крестьян, то отсутствие кредита порождало среди них ростовщичество и, как следствие, кулаков, скупавших разоренные хозяйства.)
Азартная деятельность Полякова закончилась провалом. Его спасло решение С. Ю. Витте, одобренное царем, выделить Полякову кредиты Госбанка и учинить за его банками государственный контроль.
Русские банковские и промышленные круги встретили данную меру позитивно, так как была ликвидирована угроза цепной реакции банкротств[117].
Эта история показывает, что корпоративные интересы различных экономических групп были сильнее их внутренних культурных и вероисповедальных различий. Отсюда же следовало, что объединенный российский капитал, русский и нерусский, был способен консолидированно выдвигать свои требования.
Российская элита давно расширила свои границы и возможности. За годы промышленного подъема в начале XX века российские банки удвоили свои активы по сравнению с предшествующими 1850-ми годами[118].
Теперь экономическая часть элиты, влияя на партии, общественные движения, средства массовой информации, теснила правящую бюрократию и претендовала на участие в реальной власти.
О роли банковского капитала в экономической и политической жизни последнего периода Российской империи красноречиво сказано Иосифом Гиндиным: «В 1910 году товарищ министра внутренних дел, небезызвестный Курлов, пишет министру финансов следующее. По сведениям Министерства внутренних дел, управляющий одним из филиалов Азовско-Донского банка, близкий родственник председателя правления банка, совершил одно из тех уголовно наказуемых, но никогда до суда не доходящих дел, которые обычны в практике руководящих кругов капиталистических предприятий (спекулировал в собственных интересах, потерял банковские деньги и списал их с прибылей отделения). По сведениям Министерства внутренних дел, Азовско-Донской банк усиленно финансирует кадетскую партию. Министерство внутренних дел полагает, что Министерство финансов могло бы намекнуть на щекотливое дело, предложить банку прекратить указанную противоправительственную деятельность.
Коковцов коротко ответил, что не считает возможным принять какие-либо меры в этом направлении. Министерство внутренних дел на этом не успокоилось. Через некоторое время в следующем письме сообщается, что Азовско-Донской банк через члена правления А. И. Каминку (известный профессор гражданского права) широко финансирует провинциальную кадетскую прессу. Информация сопровождается просьбой о принятии мер воздействия на банк. Ответа Коковцова на это письмо в деле нет. Его реакция выразилась только в нервной пометке карандашом: „Что же я могу сделать?“
Получается весьма живописный треугольник… Следует грозный окрик начальства в лице той части правительственного аппарата, которая являлась наиболее чистым выразителем социальной сущности самодержавия. Окрик разбивается о глухую стену — представительство интересов финансового капитала внутри того же правительственного аппарата»[119].
Надо учесть одно важное обстоятельство: «Российские банки не были продуктом эволюции российской национальной экономики, напротив, именно они подготовили и проложили дорогу этой эволюции»[120].
Крупнейшие банки контролировались из-за рубежа: Международный банк и Русский банк для внешней торговли — немцами, Петербургский частный банк, Русско-Азиатский, Азовско-Донской — французами[121].
Так, Русско-Азиатский имел сильные позиции в железнодорожном строительстве и машиностроении, судостроении, военной промышленности, нефтедобыче, угольной промышленности, металлургии; «немецкие» банки — в машиностроении, электропромышленности, металлургии, железнодорожном машиностроении, судостроении; английский капитал концентрировался в нефтедобывающей промышленности, добыче меди, золота и платины.
Учитывая все это, бюрократическую попытку изменения финансового рынка, предпринятую Столыпиным, можно считать несерьезной. Внешне в России политический режим оставался абсолютистским, однако его противоречия были уже вполне очевидны. К 1914 году 55 процентов российских ценных бумаг принадлежали иностранному капиталу и позволяли председателю совета синдиката «Продуголь», члену совета Министерства торговли и промышленности Н. С. Авдакову считать российский торгово-промышленный капитал как «силу, равновеликую правительству».
Фактически только текстильная промышленность, берущая начало с крестьянских мануфактур, развивалась за счет собственных средств вне влияния иностранных банков и обращения к финансовому рынку. К 1916 году московские «ситцевые капиталисты» вполне оформятся как оппозиционная властям сила.
Правда, было бы неверным считать, что у Столыпина не имелось противников внутри политического режима. Они были. И практически «сбили ему прицел», когда весной 1911 года Государственный совет усилиями правых монархистов отверг проект закона о юго-западном земстве, по которому изменялись правила голосования в местные органы самоуправления и решающий перевес (над польскими дворянами) должны были получить православные крестьяне. Антидворянская сущность проекта была очевидна, и правые в Государственном совете опасались дальнейшего развития этой тенденции. Кроме того, Столыпин многих утомил своим реформаторством. Если революция закончилась, то и премьер мог бы держаться поспокойнее. Прошлый век, еще полный сил, схватил Столыпина.
Шульгин отстаивал в Думе позицию премьера, доказывал, что, выступая против принятия закона, она идет против Столыпина; что нет второго такого деятеля, «кто поднимет ту тяжесть, которую он на себя взвалил и несет».
На фоне оглушительного личного провала Столыпина и его трагической гибели в Киеве поведение Шульгина в деле Бейлиса кажется непонятным.
Все, что произошло в Киеве в 1913 году, отчетливо видно из судебного протокола.
«Перед присяжными были поставлены два вопроса.
Первый вопрос: „Доказано ли, что 12 марта 1911 года в Киеве, на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице и находящегося в заведовании купца Марка Ионова Зайцева, тринадцатилетнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранением мозговой вены, артерий левого виска, шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему были вновь причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями легких, печени, правой почки, сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые ранения в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его“.
Ответ присяжных заседателей:
— Да, доказано.
Второй вопрос: „Если событие, описанное в первом вопросе, доказано, то виновен ли подсудимый, мещанин гор. Василькова Киевской губернии Менахиль-Мендель Тевиев Бейлис, 39 лет, в том, что, заранее обдумав и согласившись с другими, не обнаруженными следствием лицами, из побуждений религиозного изуверства лишить жизни мальчика Андрея Ющинского, 13 лет, — 12 марта 1911 года, в гор. Киеве на Лукьяновке, по Верхне-Юрковской улице, на кирпичном заводе, принадлежащем еврейской хирургической больнице и находящейся в заведовании купца Марка Ионова Зайцева, он, подсудимый, для осуществления этого своего намерения схватил находившегося там Ющинского и увлек его в одно из помещений завода, где затем сговорившиеся заранее с ним на лишение жизни Ющинского, не обнаруженные следствием лица, с ведома его, Бейлиса, и согласия зажали Ющинскому рот и нанесли колющим орудием в теменной, затылочной и височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранением мозговой вены, артерий левого виска, шейных вен и давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда у Ющинского вытекла кровь до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны на туловище, сопровождавшиеся поранением легких, печени, правой почки и сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые ранения по своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его“.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Василий Шульгин: судьба русского националиста"
Книги похожие на "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста"
Отзывы читателей о книге "Василий Шульгин: судьба русского националиста", комментарии и мнения людей о произведении.