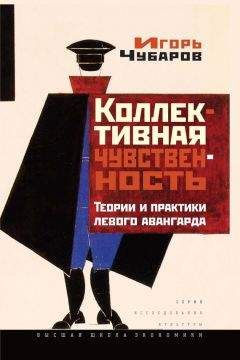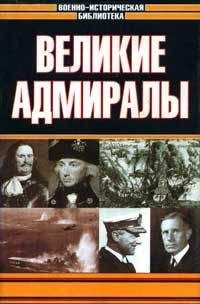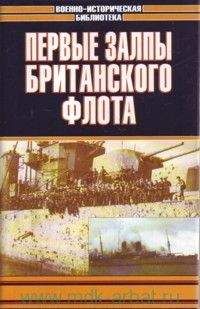Николай Евреинов - Демон театральности

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Демон театральности"
Описание и краткое содержание "Демон театральности" читать бесплатно онлайн.
Сборник произведений одной из ярчайших личностей русского Серебряного века, режиссера, драматурга, историка театра, теоретика искусства Николая Евреинова (1879–1953) включает его основные теоретические сочинения: «Театр как таковой», «Театр для себя», а также статьи: «Введение в монодраму» и «Демон театральности». Работы Евреинова сопровождают обширный комментарий и справочный аппарат.
Насколько книга властна подчинять читателя своим фантомам, видно хотя бы из трагического случая, описанного Оскаром Уайльдом в «Intentions»{423}, когда его знакомая, непреодолимо влекомая, шаг за шагом, следовать в жизни за героиней интересовавшего ее романа, воспроизвела в точности даже смертельную развязку, данную автором своему столь страшно увлекательному произведению.
Повторяю — мы вступаем здесь на чрезвычайно деликатную почву, настолько деликатную, что при обследовании ее рискуем сейчас же провалиться на ней, как только вздумаем дотронуться до нее грубыми зондами из «желтого дома».
Недаром для «лиц с преобладанием фантазии над трезвым мышлением» и «с трудом различающих действительность от воображения» французская наука принуждена была выработать понятие «déséquilibré»{424}, немецкая — «psychische Minderwerthigkeit»{425}, русская… Но термин «психопаты» {198} вряд ли приемлем в качестве научного термина, так как психопатия, как прекрасно разъяснил по этому поводу тот же проф. П. Я. Розенбах, «обозначает душевное расстройство, а здесь речь идет именно о состояниях, которых нельзя подводить под понятие о помешательстве[558]». Такие quasi-психопаты определяются почтенным профессором как лица «психически неуравновешенные», причем характерным для них признается их склонность присоединяться к «движениям, стоящим вне норм[559], принятых большинством, как например, в Армии спасения, в разных фантастических религиозных культах, в крайних или извращенных направлениях художественной и литературной деятельности», словом — к движениям, подходящим «к их потребности играть роль, к свойственной им по большей части переоценке собственной личности».
Если бы проф. П. Я. Розенбах располагал моим критерием «воли к театру», он бы обрел для своих «психически неуравновешенных» более удовлетворительную квалификацию, отнеся характерное в их поведении к явлениям театральной гипербулии, т. е. такого душевного состояния, основной тонус которого обусловливается именно чрезмерностью «воли к театру».
Весь вопрос здесь сводится к мере.
Многим из нас, например, присущ элемент «донкихотства», или «боваризма», или «тартаренизма»[560], но сам Дон Кихот, но сама m‑me Бовари, но сам Тартарен из Тараскона — это уже явления театральной гипербулии, характеризующей, как я объяснил, эксцессивный «театр для себя».
Примеры такого театра, кроме попутно приведенных здесь, столь же многочисленны в моем «портфеле», сколь и «разнообразны». Тем не менее и несмотря на то, что количество сулит здесь исключительную убедительность, я, вынужденный в конце концов не столько размерами настоящей книги, сколько прутковским соображением о невозможности «объять необъятное», ограничусь лишь немногими, сравнительно, примерами, сюда относящимися, разгруппировав их по важнейшим из известных мне категорий, а именно: эксцессивного «театра для себя», вытекающего 1) из явно-сознательной воли к театру, 2) из проблематично сознательной воли к театру, 3) из нужды в театре как половом конфортативе и 4) из изуверческой страсти «играть роль».
{199} 2. «Король-безумец»Эксцессивный «театр для себя», возникающий из явно сознательной воли к театру (доходящей порою, в развитии своем, незаметно для ее субъекта до форменно-патологического nec plus ultra{426}), был известен еще в глубокой древности.
Так, Гораций запечатлел в истории образ некоего аргивянина{427}, который целыми днями сидел в пустом театре, смеясь и аплодируя, «точно он видел на сцене интересное представление, в то время как сцена была совершенно пуста». За исключением этой странности, почтенный аргивянин выказывал себя обыкновенным хорошим человеком. «Приветливый с друзьями, — сообщает Гораций, — ласковый с женой, он был мягок в обращении с рабами и не поднимал из-за всякого пустяка бури в стаканчике». Родственники решили «вылечить» столь почтенного гражданина от его слабости. Когда же это удалось им (как? — мы не знаем), почтенный гражданин, с горьким упреком, сказал своим родственникам: «Право же, друзья мои, убили вы меня, а не спасли! Вы лишили меня моего лучшего наслаждения, насильно лишив меня моего милого заблуждения».
Это поистине классический пример эксцессивного «театра для себя» в его чистом виде, настолько яркий в моем «портфеле» среди примеров 1‑й категории, что все остальные — за одним исключением — должны показаться читателю сравнительно бледными. Я миную поэтому в интересах «интереса» эти все остальные, чтобы скорее уделить должное место исключению, по справедливости могущему претендовать на внимание, равное с тем, какое вызывает приведенный здесь классический пример, если не большее, и пожалуй, гораздо большее!
Это исключение — Людвиг II король Баварский.
Король-безумец — таким прослыл этот замечательнейший из Виттельсбахов{428} в истории. Таким, кстати сказать, представил его, смеючись, Гюстав Кан{429} в своем нашумевшем произведении.
Посмотрим же с возможным беспристрастием, как правильнее понимать в отношении этого исключительного короля эпитет «безумец»: в смысле поэтическом или патологическом.
Чем заслужил Людвиг II эпитет «безумец»?
— Своими странностями. Какими же по преимуществу?
— Вытекающими из театральной мании.
Враги Людвига II (а они еще до сих пор существуют среди моря его поклонников!) готовы все дальнейшие ответы на подобные вопросы сопрягать с «явной болезненностью», с докторами Gudden, Hagen, Graschey и Hubrech, с «несомненными признаками паранойи» и т. п.
Но нам не к чему внимать их словам, так же как и словам друзей-поклонников Людвига II (совсем иначе объясняющих «явную болезненность», «паранойю» и тяжкий приговор всех четырех докторов), вперед {200} до ознакомления с теми достоверными фактами «странностей» короля, «вытекающих из его театральной мании», какие, к счастью, имеются в наших руках.
Собственно говоря, все эти факты без исключения, несмотря на все свое различие и кажущееся многообразие, могут быть сведены к одному факту: к страсти Людвига II Баварского решительно все, начиная с окружающего и кончая самим собой, обращать, говоря попросту, в явления некоего театра, по преимуществу фантастического[565].
Твердо, и я бы прибавил — упорно, встав на почву сознательной театрализации, Людвиг II, подвергал ей:
Во-первых, время. Известно, что его обыкновением с ранних лет было обращать день в ночь и ночь в день. Во всех его замках были всегда наготове и в люстрах, и в канделябрах тысячи свечей, а в его бутафорских сооружениях сотни разноцветных электрических лампочек. Королевские слуги были постоянными свидетелями, как Людвиг II бродил один всю ночь напролет среди ослепительно, аджиорно освещенных зал.
Во-вторых, он театрализовал пространство. А именно, очень любя путешествия в одиночестве, Людвиг II совершал их порой не выходя из дворца, для чего отправлялся в манеж и садился на коня; после получасовой езды появлялся переодетый кондуктором конюх и объявлял о приезде на ту или другую станцию.
В‑третьих, природу. Он не только «обожал» стриженые версальские сады, искусственные водопады, фонтаны и озера с нарочно пригнанными на них стаями «диких лебедей», но, в своей мании театрализации, не брезговал, например, декорациями с видом Гималаев (в искусно «подделанном» зимнем саду), приспособлениями для искусственных волн на озере, подкраской купоросом воды этого озера до сказочной бирюзовости и т. п. Известно также, что он самым серьезным образом запрашивал ученых, нельзя ли в Баварии устроить искусственный вулкан. Его знаменитый Голубой грот (Грот Венеры) был, в сущности, довольно грубо скомбинированной подделкой (из скал, сталактитов и кораллов) под известный грот на острове Капри. Наконец, видели короля, в пылу театрализации, почтительно кланяющимся деревьям и кустам, причем однажды, сняв шляпу перед кустарником, он заставил и своих приближенных проделать то же.
В‑четвертых, Людвиг II широко использовал театрализацию для своего жилища, вернее, для своих многочисленных жилищ. Сказочные замки короля, его архитектурная горячка, ввергшая Баварию в долги, грозившие {201} государственным крахом, — все это стало такою «притчей во языцех», что распространяться об этом подробно, казалось бы, не стоит — уж слишком эта сторона театральной мании Людвига II известна в просвещенных кругах нашей публики. Тем не менее я приведу здесь некоторые частности, имеющие особенно показательное для настоящей главы значение. В этом смысле достоин быть отмеченным не столько замок Линдергоф, получивший названье от гигантское липы (Linde), сколько «воздушный кабинет», устроенный Людвигом II среди ветвей этой липы, — кабинет, со столом и скамейкой, куда вела взвивавшаяся по стволу липы легкая лестница. Далее особый интерес в смысле театральности представляет Hundinghütte{430}, воспроизводящая вполне древнегерманское жилище, посвященное Людвигом II одному из героев вагнеровской «Валькирии». «Эта бревенчатая хижина, — описывает Hundinghütte С. И. Лаврентьева в своем “Одиноком”, — стоит на берегу крошечного озерка, на котором при жизни Людвига плавали лебеди. Внутри не забыта ни одна из подробностей тогдашнего жилища, являющегося зрителям в первом действии оперы “Валькирия”. Посреди, как бы подпирая потолок, стоит во всей своей могучей красе столетний дуб, с заколдованным мечом, воткнутым в гигантский ствол. На бревенчатых стенах развешаны первобытные оружия с черепом оленя в виде трофея, с подвешенным под потолок гамаком, посудой и неуклюже, из грубых камней, сложенным очагом. Сбоку находится крошечная комнатка, служившая спальней королю, проводившему тут иногда несколько дней. В некотором расстоянии от “Hundinghütte”, — продолжает С. И. Лаврентьева, — среди еще более дикой чащи, стоит приземистая, бревенчатая “келья пустынника”? или “Эрмитаж”, с крошечной колокольней, увенчанной крестом. За низкой дверью, на которой с внутренней стороны грубо вырезано изображение Христа, с начертанными по сторонам лика солнцем и луной, — крошечная коморочка переносит вас в аскетическую келью пустынника XII века, с prie-Dieu{431} в виде грубо сколоченного поставца, с столь же грубо резным Распятием. Низкая, прикрытая рогожей, кровать, спинкой которой служит идущая до потолка доска с вырезанным на ней крестом, с благословляющей рукой посредине и с буквами: альфа и омега — сверху и снизу. Узкий стол и скамья дополняют убранство кельи, в которой Людвиг проводил по несколько дней, отдыхая на грубой, жесткой постели, и которую он простроил в память пустынника, игравшего такую роль в жизни Парсиваля, воспетого В. Ф. Эшенбахом{432}». Поучительно отметить, что все архитектурные произведения Людвига II что-нибудь да воспроизводят; это всегда не просто «хижина», «замок», «дворец» или «дом», а непременно или «хижина Гундинга», или «Версаль», «Малый Трианон» или «Марокканский дом» и т. п. Ультратеатральный в области архитектурной формы, Людвиг II остается верным себе и в области внутреннего убранства своих чисто фееричных, порою, жилищ. Особенно показательны в этом отношении, например, его любимая столовая со столом, механически появляющимся из-под пола в готовой сервировке и с кушаньями, или спальня, где в пологе над кроватью были устроены искусственные месяц и звезды и т. п.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Демон театральности"
Книги похожие на "Демон театральности" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Евреинов - Демон театральности"
Отзывы читателей о книге "Демон театральности", комментарии и мнения людей о произведении.