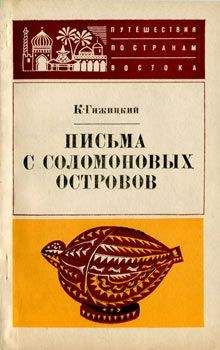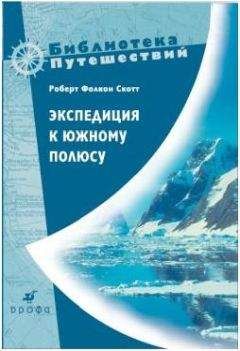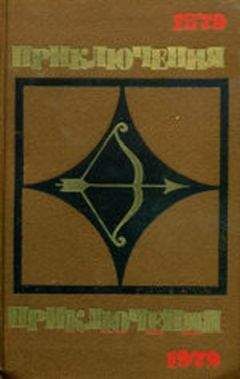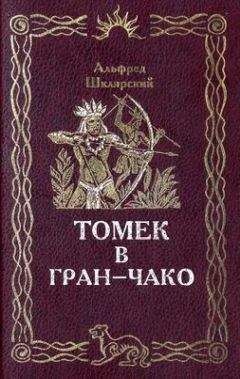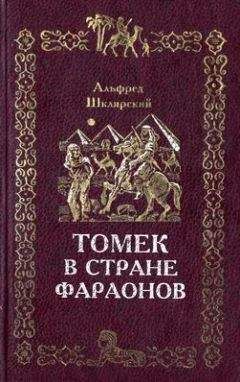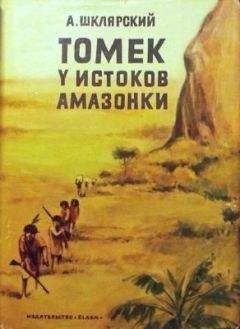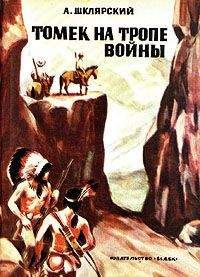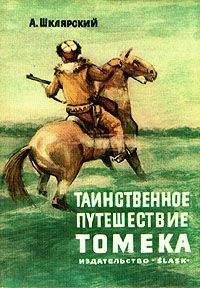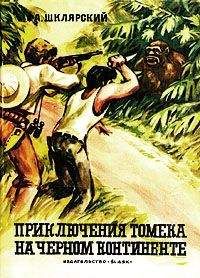Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма
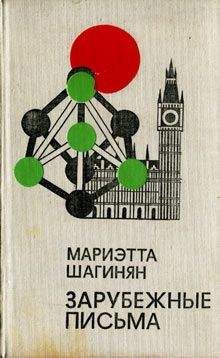
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Зарубежные письма"
Описание и краткое содержание "Зарубежные письма" читать бесплатно онлайн.
Возвращались мы до краев полные здоровьем. Розмари еще утром с восторгом сообщила мне, что на Девятую симфонию все билеты проданы, удалось достать только один-единственный — для меня. Опьяненная воздухом Баварских Альп, я отправилась слушать Бетховена, даже не передохнув в гостинице.
V. Девятая симфония
1
Пятнадцать лет назад в Лондонской королевской опере шла «Волшебная флейта» Моцарта. За дирижерский пульт встал стройный человек и поднял руку, — это был сын знаменитейшего скрипача начала нашего века, чеха Яна Кубелика, дирижер, тоже прославленный, Рафаэль Кубелик. И сейчас мне предстояло увидеть и услышать его второй раз в жизни, уже не в Лондоне, а в Мюнхене.
Если Бонн — столица всей Федерации, то в Мюнхене гордо пишут: столица (Residenz) Баварии, не упоминая подчас слова «Бавария» и оставляя одну резиденцию. В программах к мюнхенскому концерту стояло, что он произойдет в «Зале Геркулеса» резиденции. «Зал Геркулеса» — огромное, как и Ботховенхалле, тоже не так давно построенное здание. Мюнхен — старый культурный центр, его публика всегда заполняла театральные и концертные залы. Рядом с соперницей, Дрезденской картинной галереей, неизменно называлась знаменитая старая мюнхенская Пинакотека, посетить которую в прежние времена, когда вы попадали в Германию, было так же обязательно, как и Дрезденскую. В эти дни рядом с нею показывали абстракцию Клее, уже несколько устаревшую с точки зрения моды. Те же рождественские толчея и теснота на улицах, то же суетливое настроенье кануна, те же елки, — но билеты на концерт в Геркулесзале, где Рафаэль Кубелик должен был дирижировать Девятой Бетховена, были давным-давно раскуплены. Мне досталось место в третьем ряду, а так как «Геркулес» был прямолинеен и сценой и зрительным залом, то это было не совсем хорошее место, далеко сбоку.
Девятая шла не в абонементе, а как «зондер-концерт», особый концерт, внеабонементный. Текст печатной программы на первый взгляд был обстоятельный, интересный, информационный; не только, по немецкому обычаю, сообщались короткие сведения о каждом солисте (уже знакомом мне по Бонну), но и в самом конце давалось подробное неречисленье концертов всего сезона, — и любитель музыки мог заинтересоваться предстоящим 14 мая, в связи с годом Альбрехта Дюрера, исполнением в Мейстерзингерхалле Нюрнберга Четвертой симфонии Брамса и скрипичного концерта опус 61 Бетховена под управлением того же Рафаэля Кубелика. Но на этом приятное впечатление от программы заканчивалось.
В той части, где печатают обычно разъяснительный текст, помещены были две статьи — Вальтера Абендрота и Эгона Фосса. Кто бывал у нас в Москве на концертах, мог наблюдать, как московская публика (самая музыкальная в Советском Союзе после ленинградской), приходя заблаговременно, погружается в литературную часть программы. Не потому, что ей неизвестны исполняемые вещи. А потому, что литературная часть — дидактическая — это часть общего для нас, направляющего, идейного восприятия искусства, и она как бы вводит в атмосферу концерта, словно предварительное «прелюдированье». Что же в своих «прелюдиях» сказали нам два больших и знающих музыканта о великом последнем слове Бетховена, обращенном к человечеству?
Абендрот в своей обширной статье тратит много аргументов, своих и чужих, чтоб ломиться, как мне кажется, в открытую дверь. Он доказывает в ней чистоту симфонического языка Бетховена, чуждого «иллюстративности» и того, что называют позднейшей «программной музыкой». Он приводит историческую справку о том, как из Девятой симфонии облыжно выросла впоследствии эта программная музыка, выросло явление Вагнера, музыка которого тесно сплетена с драматургией, а слово со звуком, зачастую подчиненным слову. Он отрицает рождение мелодии Радости от воздействия или под впечатлением Шиллеровой «Оды к Радости», доходит даже до того, что вместе с дирижером Фуртвенглером считает, будто Бетховен просто подложил позднее под готовую у него мелодию попавшиеся ему и ритмически подходящие стихи Шиллера… Нет нужды критиковать эту статью, где правда (чистота инструментального языка, органичность чисто музыкальных тем Бетховена) доказывается «с пеной у рта» в густом переплетении с неправдой: с непониманием природы «мелоса», древнего греческого проникновения в единство выражения слово-звука в мелодии песни, в музыкальности самого стихотворения, — единство, ничего общего не имеющее ни с какой программностью или чисто живописной, пластической иллюстративностью. Но нужно решительно отмести снисходительный тон Абендрота, где он мимоходом упоминает об «эмоциональном идеализме» Бетховена, общавшегося, как и прочие современники, с мыслителями и поэтами своего века и могшего, разумеется, получать от них некоторые Einflüsse, влияния… Это смешно, и это в прямой разрез идет с бурными политическими реакциями Бетховена, с его глубоким духовным проникновением в философию века, с его участием в событиях и тенденциях своего времени.
Вторая статья, Эгона Фосса, развивает направленно мыслей Абендрота, отрыв творчества художника от его гражданской, человеческой, духовной биографии. Анализом односторонних, искусно подобранных сравнений и свидетельств он утверждает, что Бетховен долго сомневался, стоит ли ему ввести оду Шиллера в свою биографию, — о чем якобы говорит отсутствие развитого перехода от чистой музыки к хору, — и вообще бетховенские «наброски показывают, как трудно ему было сделать убедительным переход от симфонии к кантате».
Прочитав обе статьи (хорошо и культурно изложенные), вы прежде всего теряете ощущение темы Девятой симфонии, того, что вложил в нее сам Бетховен, что он хотел ею передать человечеству. Вы теряете также возможный анализ других трудностей Великого Глухого, о которых обычно стыдливо умалчивают. Один из советских музыкантов как-то заметил в разговоре, что сложность хоровой партитуры конца Девятой часто приводит к «какофонии», заставляя хор делать ошибки… Стыдливо умалчивается трагедия Бетховена, не слышавшего, не воспринимавшего своего собственного голоса к пебу, своего взлета к Радости, — к Радости, завещанной им человечеству вместе с Миром.
Но вот программа прочитана, я уселась на свое место, и концерт начался. Его передавали по телевизору, поэтому яркий сноп белого блеска падал на сцену и слепил глаза. Мне пришлось, чтоб следить за дирижером, держать перед собой, защищая глаза, эту злополучную программу, и рука уставала, хотя усталость побеждалась с каждой минутой. Рафаэль Кубелик — превосходный аналитик классической немецкой музыки… Не знаю другого дирижера, который производил бы так величаво-спокойно и зная себе цепу «пластическую операцию» расчленения большого музыкального целого на его фразы, абзацы, главы, подглавки. Это усугублялось еще красотой движения его рук, словно плавающих по воздуху. Он не делал резких взмахов, не горел, как когда-то дирижер Никиш — «весь всплеск и пламя», как говорили о нем в конце девятнадцатого века. Кубелик дирижировал спокойно, как бы поучая оркестр, держа в узде эмоции, но любуясь, любуясь каждым куском музыки, словно поворачивая его лицом к зрителю: взгляните! И наперекор всем увереньям Абендрота и Фосса вдруг постигалось зрительное впечатление от симфонии, — не в каких-то картинах или смыслах, а словно от чертежа, от архитектоники, от соотношения частей.
Первые три части Девятой были нам «пропущены в слух» как бы сквозь пальцы очень красивой — плавной, как крыло лебедя, белой, как этот несносный блеск прожектора, — руки дирижера. Наверное, верующий католик так пропускает сквозь пальцы бусинку за бусинкой янтарные четки. И странным образом в этом почти академическом, очень сдержанном и четком исполнении вдруг стали ухом различаться знакомые фразы или зачатки фраз из других, ранних вещей Бетховена, — может быть, из набросков Второй симфонии, может быть, какой-нибудь сонаты, специалисты, наверное, скажут, каких, откуда, — а главное, стало настойчиво стучаться в память победное, торжествующее шествие «Фантазии для рояля, оркестра и хора». Многое в судьбе Девятой и в трагизме последнего творчества Бетховена могло бы объясниться вовсе не теоретическими спорами о «программности» и «чистоте». Бетховен боялся своей глухоты, память приводила ему бесспорные, абсолютные свершения его прежних лет, когда живой, хоть и ослабленный слух еще приносил ему реальные прикосновенья создаваемых звуков. Но к этой красоте прошлого он самолюбиво не хотел возвращаться, он хотел создавать новое, еще глубже, еще прекрасней, — а страх холодом проникал где-то, и опасенье подбрасывало намять о прежнем, верный устой, не разрушенный иллюзорным миражем глухоты… Это очень страшно, и это убедительно психологически. И, несмотря на все это, несмотря на реминисценции созданного, топтанье перед прыжком из симфонии в кантату, нечто растерянное, замедленное, несогласное — как настрой инструментов в оркестре перед началом игры, — социальная сила, именно социальная сила чувства, связующего трагическое сознанье одинокого гения божьего с миллионом сердец его современников и тех, кто придет вслед за ними, — с сердцами всего последующего человечества, — именно это могучее чувство прорвало паузу между музыкой и словом, влилось в хор и придало Девятой симфонии ее величие, ее уникальность… Радость, искра божьего огня!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зарубежные письма"
Книги похожие на "Зарубежные письма" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мариэтта Шагинян - Зарубежные письма"
Отзывы читателей о книге "Зарубежные письма", комментарии и мнения людей о произведении.