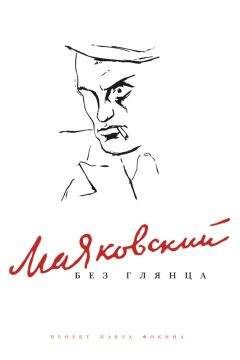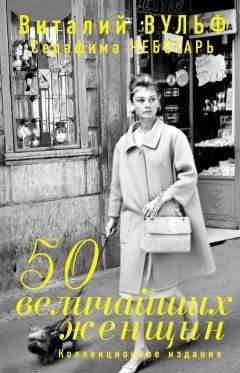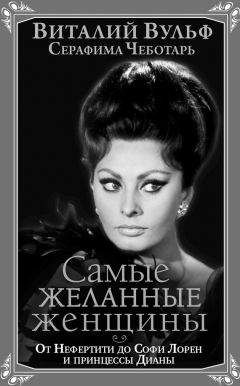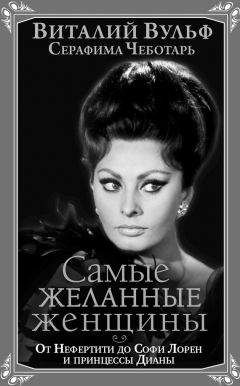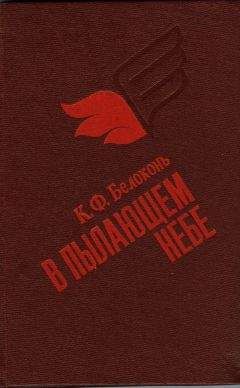Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."
Описание и краткое содержание "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать бесплатно онлайн.
Портретная галерея культурных героев рубежа веков – повествование о поэтах, художниках, музыкантах, меценатах, философах, актерах, певцах и других представителях эпохи, которых можно назвать уникальными феноменами «Серебряного века». Сотканная из воспоминаний, заметок, критических отзывов, дневниковых замечаний, книга воссоздает облик и «живую жизнь» ярких и необычных людей, отделенных от нас веком непонимания и забвения. Вместе с тем это не энциклопедический справочник и не собрание мемуаров. «Культурные герои» предстают перед читателями персонажами увлекательного романа, наполненного истинным драматизмом, и через десятилетия остающимся неподдельным и захватывающим.
…Кусиков тоже был в те начальные годы „стихийником“. Но в 1927 году, в Париже, подошел ко мне после литературного вечера советских писателей человек в шляпочке, в кургузом, черном, как траур, пиджачке и потрепанных брючках, маленький, тощенький, жалконький какой-то. Он вымолвил тихо и неуверенно:
– Кусиков. Помните? Не узнали?..
Где его кинжал? Где бурка? Где лихие танцы?… Печальные глаза. Унылый вид. „Где ж твоя улыбка, что была вчерась?..“ Да, оказалось возможным и такое превращение „стихийника“. Случалось и так» (М. Слонимский. Воспоминания).
КУСТОДИЕВ Борис Михайлович
Живописец, график, театральный художник. Член «Союза русских художников» (с 1907), «Мира искусства» (с 1911). Живописные полотна «Ярмарка» (1906, 1908), «Портрет священника и дьякона» (1907), «Монахиня» (1908), «Деревенский праздник» (1910), «Купчиха» (1915), «Девушка на Волге» (1915), «Красавица» (1915), «Масленица» (1916), «Балаганы» (1918), «Масленица» (1919), «Зима. Масленичное гуляние» (1921) и др. Иллюстрации к повестям Гоголя «Шинель» (1905), Лескова «Штопальщик» (1922), «Леди Макбет Мценского уезда» (1923), стихотворениям Некрасова (1922). Декорации и костюмы к спектаклю «Блоха» Замятина (1925, 2-й МХТ).
«Много я знал в жизни интересных, талантливых людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительно яркая Россия, звенящая бубенцами и масленой. Его балаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его сдобные красавицы, его ухари и молодцы – вообще все его типические русские фигуры, созданные им по воспоминаниям детства, сообщают зрителю необыкновенное чувство радости. Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такой аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей» (Ф. Шаляпин. Воспоминания).
«Русский Рубенс, Кустодиев умел любоваться здоровьем и молодостью. Милы ему были сдобные белорозовые самки, жаркие, истомные, в душной неге возлежащие на широких ложах („И на перины пуховые // В тяжелом завалиться сне…“) или разряженные по-праздничному, сидящие за чаепитием на балконах деревянных особняков.
…Неутомимый труженик, настоящий подвижник искусства, Кустодиев не умел хандрить и печалиться, никакие страдания не могли угасить в нем благословляющего, утвердительного отношения к жизни. Интенсивная красочность его холстов, радостная свежесть колорита преисполнены глубокого внутреннего смысла: в них раскрывается сущность русской души в том аспекте, в каком хотел и умел видеть ее Кустодиев.
Встречи с Борисом Михайловичем: в просторной светлой комнате, где со стен смотрят такие знакомые красочные, жизнерадостные полотна – пышнотелая красавица русская, нежно-зеленые и голубые пейзажи, эскизы „Блохи“, портрет Волошина, похожего на плохое изображение Зевса. На шкафу – бюст Добужинского. На мольберте – неоконченный холст. Посреди комнаты за мольбертом или у окна в кресле на колесах художник. Внимательный, улыбчивый. Слабый, слегка сиповатый голос. Первое и постоянное впечатление: весь он мягкий, округленный, „сырой“. В последние годы черты Б. М. приобрели некоторую одутловатость, отечность, какая бывает у людей, долго живущих взаперти или (Б. М. выезжал иногда на прогулку, в театр, в кино, даже за город) ведущих исключительно сидячий образ жизни. Прежде, с бородою, он имел сходство с московским купчиком: есть такой, совсем „купеческий“, автопортрет в шубе и меховой шапке; без бороды Б. М. казался моложе и утратил „замоскворецкий“ стиль, но борода была ему к лицу.
Во всех беседах, какие приходилось вести с Б. М., никогда не замечал я ни тени самолюбования, ни малейшего самомнения. О некоторых вещах своих он говорил с любовью, но без наивного восторга, свойственного художникам. Хочется вспомнить каждую мелочь, каждую черту внешности, подробности разговора, застенчивую эту улыбку, нерешительные и добродушные интонации… Б. М. – в домашней куртке, ноги закутаны в плед. На маленьком столике – дощечке, прилаженной к креслу, – гильзы, табак. Б. М. набивает папиросу, вставляет ее в мундштук, курит, щурится от дыма. Если Б. М. не курил, он скрещивал руки на груди или вертел в руках спичечную коробку, карандаш. Но это были короткие периоды отдыха, на время беседы, обычно же художник был почти непрерывно занят работой. Приезжая к нему по делам Госиздата или „просто так“, я неизменно заставал его за мольбертом или с листом бумаги на столике; раз или два – за клейкою макета для театра.
Художник, много поработавший в портретном искусстве, не мог не интересоваться проблемой портрета в принципиальном плане. Будучи в своих портретах „натуралистом“, Кустодиев был, однако, противником точного копирования модели.
– Если требовать от портрета известного синтеза, если он должен быть суммой всех сторон характера и деятельности данного лица, то можно ли требовать от художника совершенной объективности? – говорил Б. М. – Всякий синтез будет субъективен.
– …Похожий портрет, – утверждал художник, – это такой портрет, который внутренно похож, который даетпредставление о душевной сути данного человека. И тут нужно предоставить художнику выражать свое пониманиеэтой сути. Иначе незачем обращаться к живописцу, а нужно идти к фотографу» (Э. Голлербах. Встречи и впечатления).
«В 1913 г., осенью, я получил открытку от Кустодиева из Берлина. „Завтра ложусь под нож – будет операция, и я не знаю, останусь ли жив. Сегодня иду в „Kaiser Fridrich Museum“ насладиться, может быть, последний раз Веласкезом и нашим любимым Вермеером“.
Операция была страшная. Два года он очень страдал от таинственных болей шеи и рук, провел почти год в горах, в швейцарском санатории, на подлинном „прокрустовом ложе“, где ему варварски вытягивали шею, – и все напрасно. Но операция удалась – о ней писали в медицинских журналах: надо было вскрыть шейный позвонок и удалить опухоль на спинном мозге. Все эти мучения были лишь началом страданию во всю его остальную жизнь – все последующие шестнадцать лет, потому что были еще две операции, такие же жестокие, и последняя привела к тому, что он был спасен для душевной жизни, но пришлось в силу каких-то хирургических соображений пожертвовать ногами, и, полупарализованный, он был уже пригвожден к креслу до конца жизни.
И вот на глазах знавших его происходило истинное чудо – именно то, что называется „победой духа над плотью“. Он лишь как „сквозь щелку“ видел то, что происходило в это время кругом. Сидя в своем кресле у окна с видом на синий купол церкви, он мог наблюдать свою улицу и все, что сменялось на ней, день за днем, год за годом, – хвосты очередей, манифестации, как растаскивали на топливо последние деревянные дома Петроградской стороны, как ложился снег на крыши и распускалась весной зелень сквера…Эта невольная изолированность была огромным несчастьем для него как художника – в течение многих лет (и еще до революции) он совершенно был лишен непосредственных внешних впечатлений жизни: ни деревни, ни привлекавшей его всегда русской провинции. Поневоле он должен был питаться только запасом своих прежних воспоминаний и силами своего воображения – и память, фантазия и работоспособность его действительно были беспримерны. Наперекор всему и своей болезни он уходил в свой мир тихой и обильной жизни Поволжья, быта купцов и купчих, который уже тогда смела революция, радостных пейзажей с полями, залитыми солнцем, масленичных гуляний с тройками и березами в инее, гостиных дворов его небывалого русского городка.
И что особенно поражало в этом, быть может, до болезненности жадном творчестве, точно он спешил исчерпать себя до конца, – это всегдашняя его тихая незлобливость и, что еще удивительнее, отсутствие всякой сентиментальности к ушедшему и горечи по утраченному для него. Точно он верил, что все то, что вставало в его воображении, реально существует где-то в мире, и потому нам так дорога была эта простая улыбка радости жизни, которая светилась в его творчестве.
Ему было горше и печальнее, чем многим из его друзей, но от этой силы воли, горения и благодушия, которые мы видели у него, делалось как-то стыдно за собственную апатию. Кустодиев навсегда останется одним из моих самых светлых и благодарных воспоминаний этих лет. Если бывало очень тяжело, хотелось именно пойти к нему на далекую Петроградскую сторону, „поговорить о прекрасном“, как мы шутя говорили, и посмотреть на его городки, и унести всегда запас бодрости, умиления и веры в жизнь» (М. Добужинский. Воспоминания).
КШЕСИНСКАЯ Матильда Феликсовна
Ведущая балерина Мариинского театра (с 1890). Лучшие роли – Аспиччия («Дочь фараона»), Лиза («Тщетная предосторожность»), Эсмеральда («Эсмеральда»). Автор «Воспоминаний» (Париж, 1960). С 1920 – за границей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."
Книги похожие на "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р."
Отзывы читателей о книге "Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 2. К-Р.", комментарии и мнения людей о произведении.