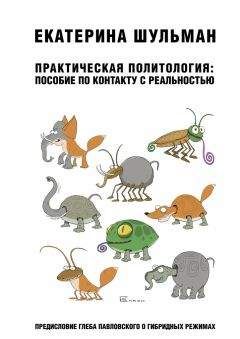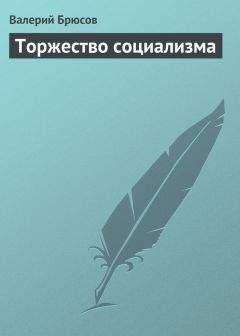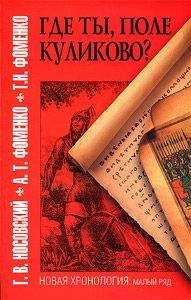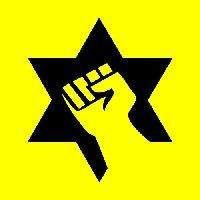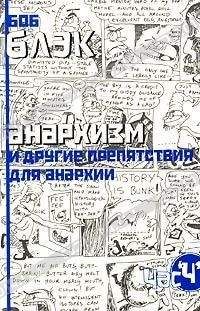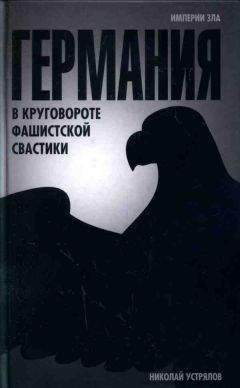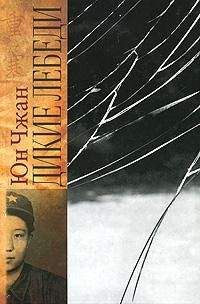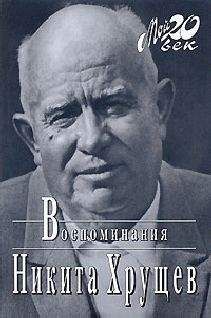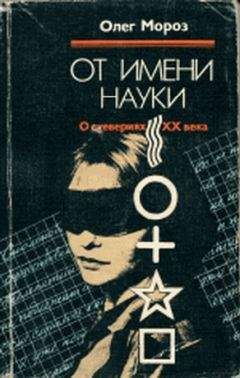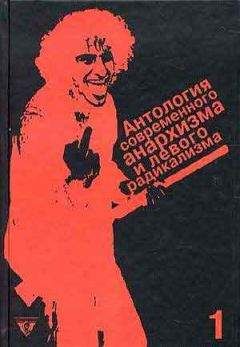Даниэль Герен - Анархизм: от теории к практике
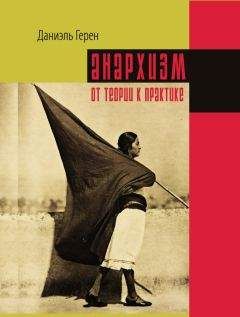
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Анархизм: от теории к практике"
Описание и краткое содержание "Анархизм: от теории к практике" читать бесплатно онлайн.
Герен, Д.
Анархизм: от теории к практике
Написанная в доступной форме книга французского общественного деятеля и писателя Даниэля Герена (1904–1988) знакомит читателей с основными идеями анархизма — социально-политической философии, идеалом которой является общество свободных личностей, основанное на самоуправлении, солидарности и отсутствии власти и принуждения. Впервые вышедшая по-французски в 1965 году книга Герена способствовала подготовке революционного взрыва 1968 года и возвращению анархизму доброго имени после десятилетий гонений и клеветы. Она была переведена на многие языки, неоднократно переиздавалась и до сих пор остается замечательным популярным введением в анархические идеи. В ней излагаются основные принципы анархизма в том виде, как они были сформулированы его теоретиками, а также рассматривается практический опыт построения свободного и справедливого общества — либертарного социализма.
Книга предназначена для всех интересующихся историей идей и общественных движений.
Перевод: Сообщество анархистов Барнаула, Т. Давыдова и Жак Петивер
Редактор: Михаил Цовма
Корректор: Петр Рябов
Дизайн обложки: Варвара Корнилова
Верстка: Сообщество анархистов Барнаула
Фото на обложке: Тина Модотти
Лицензия: Сreative Commons, Attribution Non-Commercial Share Alike
Но руководители партии придерживались иного мнения. Они были очень рады забрать у фабзавкомов власть, которую те отдавали им скрепя сердце. Уже в 1918 г. Ленин подчеркивает свое предпочтение «единоначалия» в управлении предприятиями. Рабочие должны «безоговорочно» подчиняться единой воле руководителей производственного процесса. Все большевистские вожди, рассказывает Коллонтай, «испытывали недоверие к творческим способностям рабочих коллективов». К тому же в администрации преобладали многочисленные мелкобуржуазные элементы, оставшиеся от прежнего русского капитализма, которые очень быстро приспособились к советским порядкам, заняли ответственные посты в различных комиссариатах и стремились к тому, чтобы экономическое управление было поручено отнюдь не рабочим организациям, а им самим.
Государственная бюрократия все более и более вмешивалась в управление экономикой. С 5 декабря 1917 г. промышленность была подчинена Высшему совету народного хозяйства, которому было поручено самовластно координировать деятельность всех производственных органов. Съезд Советов народного хозяйства (26 мая — 4 июня 1918 г.) принял постановление об учреждении дирекций предприятий, две трети членов которых назначались областными советами или Высшим советом народного хозяйства, и лишь одна треть выбиралась рабочими на местах. Декрет от 28 мая 1918 г. распространяет коллективизацию на всю промышленность в целом, но одновременно и преобразовывает стихийную социализацию первых месяцев революции в национализацию. Высший совет народного хозяйства отвечал за управление национализированной промышленностью. Директора и инженерно-технический состав остаются на занимаемых должностях в качестве государственных служащих. На втором съезде совнархозов в конце 1918 г. фабрично-заводские комитеты были решительно осуждены за их попытки управлять фабриками вместо дирекций предприятий.
Для приличия, выборность фабзавкомов продолжала существовать, но представитель коммунистической ячейки теперь зачитывал составленный заранее список кандидатов, а открытое голосование осуществлялось путем поднятия руки в присутствии вооруженной «коммунистической гвардии» предприятия. Всякий, кто выступал против предложенных кандидатов, подвергался экономическим санкциям (снижению зарплаты и т. д.). Как объясняет Аршинов, воцарился лишь один вездесущий хозяин — государство. Отношения между рабочими и этим новым хозяином вновь стали теми же, что были прежде между трудом и капиталом. Был восстановлен наемный труд, только теперь в облике долга перед государством.
Функции Советов стали чисто номинальными. Они были трансформированы в институты правительственной власти. «Вы должны стать основной ячейкой государства», — заявил Ленин на Всероссийском съезде Советов 27 июня 1918 г. По выражению Волина, их роль была сведена к «чисто административным и исполнительным органам, занимающимся незначительными местными делами и целиком подчиненным «директивам» центральных властей: правительства и руководящих органов партии». У них не осталось «ни тени власти». На Третьем съезде профсоюзов (апрель 1920 г.) докладчик комитета, Лозовский, признал: «Мы отказались от прежних методов рабочего контроля и сохранили от них лишь государственный принцип». Отныне этот контроль должен осуществляться государственным органом: Рабоче-крестьянской инспекцией (Рабкрин).
Отраслевые профсоюзные объединения, бывшие централизованными структурами, вначале служили большевикам для того, чтобы ограничить и подчинить себе фабрично-заводские комитеты, по своей сути федеративные и свободные. С 1 апреля 1918 г. слияние этих двух типов организации стало свершившимся фактом. Отныне профсоюзы, под надзором партии, стали играть дисциплинарную роль. Профсоюз металлистов Петрограда наложил запрет на «дезорганизаторские инициативы» заводских комитетов и осудил их «опаснейшее» стремление передавать в руки рабочих те или иные предприятия. Было заявлено, что в этом заключается худшее подражание производственным кооперативам, «идея которых давным-давно уже обанкротилась» и которые «не замедлят вскоре превратиться в капиталистические предприятия». «Все предприятия, брошенные или саботированные их владельцами, продукция которых необходима национальной экономике, должны быть подчинены государственному управлению». «Недопустимо», чтобы рабочие брали предприятия в свои руки без одобрения профсоюзных органов.
После этой предварительной операции захвата профсоюзы, в свою очередь, были укрощены, лишены любой автономии, подвергнуты чисткам; их съезды откладывались, их члены подвергались аресту, их организации распускались или же сливались в более крупные объединения. В ходе этого процесса любые анархо-синдикалистские тенденции были уничтожены, а профсоюзное движение стало полностью подчинено государству и единственной партии.
То же произошло и в отношении потребительских кооперативов. В начале революции они стали возникать повсюду, росли количественно, объединялись на федеративных началах друг с другом. Их преступление состояло в том, что они были вне контроля партии, к тому же в них просочилось некоторое число социал-демократов (меньшевиков). Вначале стали лишать местные магазины средств снабжения и транспорта под предлогом борьбы против «частной торговли» и «спекуляции» или даже без каких-либо предлогов вообще. Затем внезапно были закрыты все независимые кооперативы, а вместо них бюрократическим способом были созданы потребительские кооперативы при комиссариате по продовольствию и производственные кооперативы при Высшем совете народного хозяйства. Многие кооператоры были брошены в тюрьмы.
Рабочий класс на это не отреагировал ни достаточно быстро, ни достаточно решительно. Он был рассеян, разобщен, изолирован в необъятной, отсталой, в преобладающем большинстве сельской стране, обессилен лишениями и революционной борьбой, и, хуже того, деморализован. К тому же лучшие его представители ушли на фронты гражданской войны или же влились в партийный или правительственный аппарат. Несмотря на это, некоторое число рабочих чувствовали себя обманутыми, незаконно лишенными своих революционных завоеваний и прав, взятыми под опеку, униженными высокомерием, надменностью и произволом новых властей, и отдавали себе отчет в истинной природе пресловутого «пролетарского государства». Так, летом 1918 г. недовольные рабочие московских и петроградских предприятий избрали делегатов из своей среды, стремясь тем самым противопоставить подлинных «фабричных уполномоченных» комитетам предприятий, созданным властями. Как рассказывает Коллонтай, рабочий чувствовал, видел и понимал, что его отстранили, отодвинули в сторону. Он мог сравнить образ жизни советских бюрократов и чиновников со своей жизнью. А ведь на нем, по крайней мере, теоретически, зиждилась «диктатура пролетариата».
Но когда рабочие окончательно прозрели, было уже поздно. Власть успела прочно утвердиться, сорганизоваться, в ее распоряжении был репрессивный аппарат, способный сломить любую попытку независимого движения масс. По словам Волина, ожесточенная, но неравная борьба, длившаяся три года и практически неизвестная за пределами России, противопоставила авангард рабочего класса государственному аппарату, упорно отрицавшему разрыв, произошедший между ним и массами. С 1917 г. по 1919 г. происходили все более многочисленные забастовки в крупных промышленных городах, главным образом в Петрограде, и даже в Москве. Как мы увидим далее, они были жестоко подавлены.
Внутри самой правящей партии возникла «Рабочая оппозиция», которая требовала возврата к советской демократии и самоуправлению. На десятом съезде партии в марте 1921 г. один из ее глашатаев, Александра Коллонтай, распространяла брошюру с требованием свободы инициативы и организации для профсоюзов, а также избрания центрального административного экономического органа страны «советом производителей». Брошюра была конфискована и запрещена. Ленин заставил участников съезда практически единогласно принять резолюцию, уподоблявшую тезисы «рабочей оппозиции» «мелкобуржуазным анархистским извращениям»: «синдикализм», «полуанархизм» оппозиционеров, представляли, по его мнению, «непосредственную опасность» для монополии на власть, осуществляемую партией от имени пролетариата.
Борьба продолжалась и внутри центрального руководства профсоюзов. Томский и Рязанов были исключены из президиума и отправлены в ссылку, поскольку они настаивали на независимости профсоюзов от партии. Лидера «Рабочей оппозиции» Шляпникова постигла та же участь, и он вскоре последовал за вдохновителем другой оппозиционной группы, Г. И. Мясниковым, рабочим, инициатором казни великого князя Михаила в 1917 г. Он состоял в партии на протяжении 15 лет до революции, провел более семи лет в тюрьме и держал 75-суточную голодовку. В ноябре 1921 г. он осмелился заявить в брошюре, что рабочие потеряли доверие к коммунистам, потому что партия не имеет больше общего языка с рядовыми рабочими и теперь использует против рабочих репрессивные меры, которые использовала против буржуазии в 1918–1920 гг.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Анархизм: от теории к практике"
Книги похожие на "Анархизм: от теории к практике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Даниэль Герен - Анархизм: от теории к практике"
Отзывы читателей о книге "Анархизм: от теории к практике", комментарии и мнения людей о произведении.