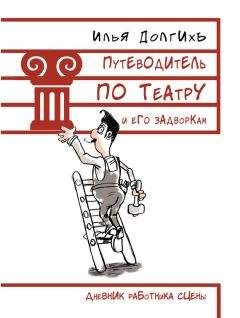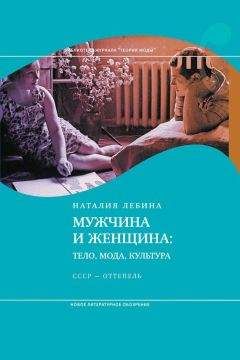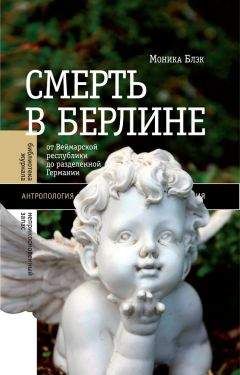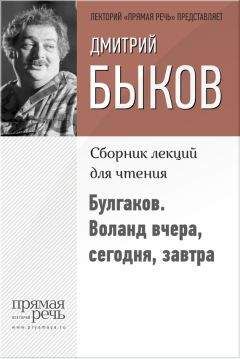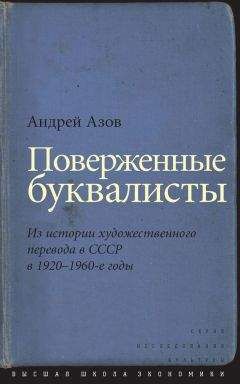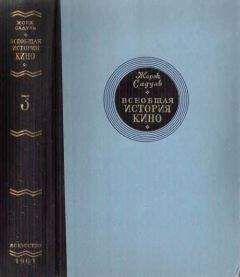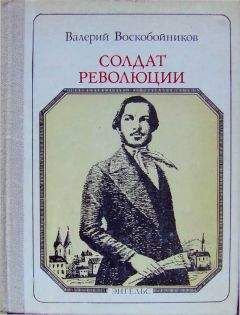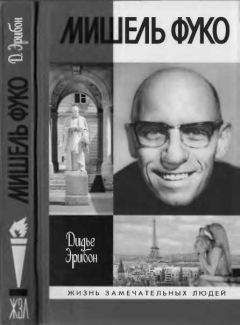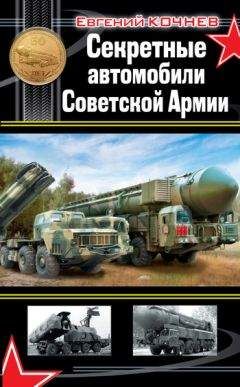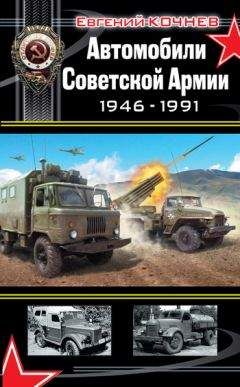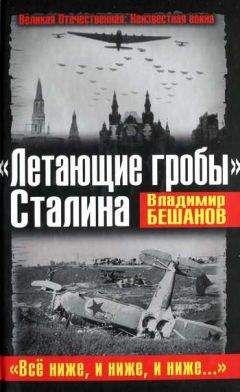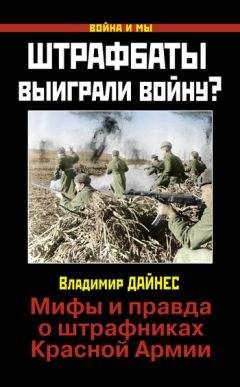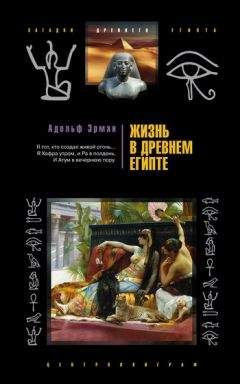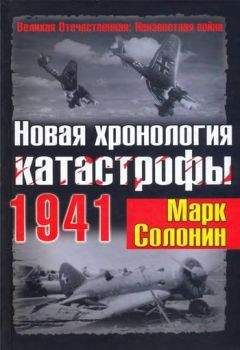Наталья Лебина - Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю
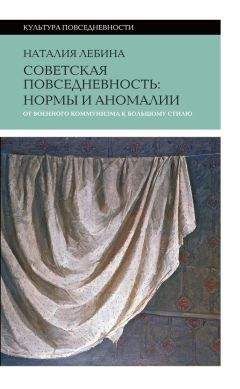
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю"
Описание и краткое содержание "Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю" читать бесплатно онлайн.
Новая книга известного историка и культуролога Наталии Лебиной посвящена формированию советской повседневности. Автор, используя дихотомию «норма/аномалия», демонстрирует на материалах 1920—1950-х годов трансформацию политики большевиков в сфере питания и жилья, моды и досуга, религиозности и сексуальности, а также смену отношения к традиционным девиациям – пьянству, самоубийствам, проституции. Основной предмет интереса исследователя – эпоха сталинского большого стиля, когда обыденная жизнь не только утрачивает черты «чрезвычайности» военного коммунизма и первых пятилеток, но и лишается достижений демократических преобразований 1920-х годов, превращаясь в повседневность тоталитарного типа с жесткой системой предписаний и запретов.
После свершения социальной революции самая обездоленная часть горожан, жившая в рабочих казармах, ожидала улучшения своего быта. Предложить рабочим переместиться из одной казармы в другую, имеющую название «фаланстер», означало для большевистской власти с первых же дней утратить часть социальной опоры революции. Победивший класс решено было наделить весьма существенным знаком господства – квартирой. Жителей рабочих казарм начали переселять в квартиры буржуазии и интеллигенции. Первые мероприятия жилищной политики большевиков, таким образом, не соответствовали теории социализма. И все же идея «фаланстеров» не была забыта российскими коммунистами. Действительно, сначала в Петрограде, а затем и в Москве появились новые коллективные формы жилья, в определенной степени напоминающие коммуны. Здесь уже действовала витальная, охранительная функция жилищной нормы, которая могла стать государственным гарантом наличия вполне определенных границ телесности в новом обществе.
С октября 1917 года видные питерские большевики совместно проживали в здании Смольного института, где помимо административных служб размещались библиотека-читальня, музыкальная школа, Смольный детский дом (ясли), баня, столовая. К 1920 году из имеющихся в комплексе зданий Смольного 725 квартир и комнат 594 были жилыми. Здесь обитали примерно 600 человек, которых обслуживало более 1000 рабочих и служащих: медиков, поваров, истопников, слесарей, охранников и т.д. Безопасность жителей Смольного обеспечивали красноармейцы и матросы. К марту 1918 года их заменили латышские стрелки, численность которых достигла 500 человек. Лишь к концу октября 1919 года охрана Смольного сократилась до 150 человек.
Но штаб революции был не единственным фаланстером для большевистской верхушки. Значительно лучше и комфортнее жилось постояльцам в так называемых Домах Советов. Эти учреждения появились не только в Петрограде, но и в Москве. После переезда туда правительства в своеобразное общежитие-коммуну была преобразована шикарная московская гостиница «Националь». Здесь жили В.И. Ленин, Н.К. Крупская, М.И. Ульянова, Я.М. Свердлов. Глава советского правительства вместе с женой и сестрой занимали двухкомнатный номер157. В Петрограде же большевистская элита сосредоточилась в знаменитой «Астории», образовав там 1-й Дом Советов. К весне 1918 года статус этих фаланстеров для партийной знати определился. Как подчеркивалось в одном из регламентировавших их деятельность документов, Дома Советов «имеют структуру общежитий с отдельными комнатами, общей столовой и общими кухнями, и предназначены исключительно для постоянного проживания советских служащих по ордерам, выдаваемым из отдела Управления Домами и Отелями…»158. В Доме Советов, согласно специально утвержденному положению, имели «право проживать только следующие лица: 1. Члены ВЦИК. 2. Члены ЦК РКП. 3. Члены Губкома РКП. 4. Члены Облбюро ЦК РКП. 5. Члены Губисполкома. 6. Члены Губисполкома и их заместители. 7. Члены коллегий отделов Губисполкомов». Остальные помещения предоставлялись сотрудникам ВЧК и ПВО, райкомам РКП(б), райсоветам и командированным высоких рангов. В примечании к положению указывалось: «При наличии свободных комнат допускаются ответственные работники с партийным стажем не позднее 1918 г.»159
Администрация Дома Советов брала на себя заботу о питании, бытовом обслуживании и даже о досуге жильцов, социально значимых для новой власти. В записках с просьбой разрешить тому или иному человеку хотя бы короткое время пожить в «Астории» можно было встретить такие формулировки: «Прошу поместить в 1 Доме Совета врача тов. А. Гибина. Тов. Гибин очень ценный работник… и сбережение его труда от мелких домашних хлопот по хозяйству даст ему возможность отдать еще больше сил советской и партийной работе»160.
Желающих приобщиться к благам, которые предоставлялись в импровизированной коммуне в «Астории» – 1-м Доме Советов, – было немало. Уже в июне 1918 года представители властных структур Петрограда вынуждены были поставить вопрос о выселении из бывшей гостиницы лиц, чей статус не соответствовал правилам заселения Домов Советов. Затем чистки стали проводиться периодически. При этом каждый раз составлялся список «бесспорно оставляемых жильцов» – первых лиц города. Правда, и в данном случае нормы распределения жилой площади были в определенной степени ранжированными. Так, наиболее крупные партийные и советские работники занимали обширные апартаменты с явным превышением санитарно-жилищной нормы: Г.Е. Зиновьев, окончательно поселившийся в «Астории» в сентябре 1920 года, имел сразу пять комнат на втором этаже. Здесь же в двух номерах разместилась его бывшая жена З.И. Лилина с десятилетним сыном. Выше этажом в трех номерах жили дочери Л.Д. Троцкого Зинаида и Нина Бронштейн. Лицам, занимавшим более низкие ступени советской номенклатурной лестницы, полагались и более скромные жилищные условия. Так, помощник Зиновьева по Петросовету А. Васильев имел всего три комнаты, а секретарь Петросовета Н.П. Комаров – одну161.
Первые советские коммуны, организованные по инициативе власти, имели четкую иерархическую структуру, на верхней ступени которой находились Дома Советов. Советским и партийным активистам, не обладавшим длительным партстажем и не занимавшим большие должности, а также некоторым представителям интеллигенции удавалось расположиться в более скромных коллективных жилищах, получивших название «отели Советов». Это были общежития комнатной системы с общими кухнями. В Петрограде отели Советов размещались в многочисленных бывших второсортных гостиницах, в так называемых «номерах».
Некое подобие коллективного жилья являли собой в 1918–1922 годах петроградский Дом литераторов на Бассейной улице и знаменитый ДИСК – Дом искусств. Он расположился в особняке банкира С.П. Елисеева на углу Невского проспекта и набережной Мойки. ДИСК занял огромную квартиру, размещавшуюся на двух верхних этажах здания. «Сюда-то, – писал поэт Вс. Рождественский, – и перебрались все бездомные литераторы. Они без сожаления покинули свои нетопленные жилища. Петрокоммуна снабдила елисеевский дом всем необходимым для жизни»162.
Отели Советов и в первую очередь ДИСК, по меткому замечанию автора блестящей и язвительной книги «Другой Петербург», были «первым опытом перевоспитания интеллигенции путем подкормки»163. Немногочисленные и сугубо элитарные советские «фаланстеры» не имели никакого отношения к идее формирования новой коммунальной телесности. Они помогали советской бюрократии и приближенной к ней части интеллигенции выжить в экстремальных условиях. Всего летом 1921 года в Домах и отелях Петросовета постоянно проживало 800 человек. Даже в начале 1920-х годов, после перехода к нэпу со свойственными ему плюрализмом и идеей самообеспечения, в советских номенклатурных коммунах обслуживали бесплатно. Неудивительно, что многие не спешили отказываться от преимуществ жизни в этих заведениях.
Представители петроградской большевистской номенклатуры продолжали обитать в гостеприимных стенах «Астории» – 1-го Дома Советов – и через полтора-два года после формального провозглашения нэпа. Историк М.Б. Рабинович вспоминал, что в начале 1920-х годов, когда после окончания Гражданской войны он приехал в Петроград из Могилева, чтобы поступить в университет, в «Астории» по-прежнему «обитали разные ответственные товарищи»164. В 1923 году ВЦИК и СНК РСФСР специальным декретом от 12 сентября остановили разрастание числа желающих пожить в элитарных советских «фаланстерах» – Домах Советов. В документе, называвшемся «Об освобождении 36 (! – Н.Л.) гостиниц города Москвы от постоянных жильцов» указывалось на необходимость возвращения гостиницам традиционных функций – предоставления временного жилья приезжим165. В отдельных случаях даже в разгар нэпа партийные функционеры среднего уровня, особенно не имевшие семей, пытались устроиться жить в Домах Советов. Об этом свидетельствует, в частности, запись в дневнике В. Беньямина от 15 декабря 1926 года. Он рассказывает о некоем доме на Страстной площади в Москве, который он называет своего рода огромным boarding house166, 167. Но в целом к середине 1920-х годов коллективное жилье оказалось ненужным номенклатуре, уже вполне справившейся с военно-коммунистическими трудностями быта. Тем не менее сама идея «коммунитаризма», который должен был сформировать идеальные «коммунальные тела», продолжала развиваться.
В первой половине 1920-х годов приживить «фаланстеры» на российской почве попытались комсомольцы. Чаще всего это была индивидуальная инициатива. Первые молодежные коммуны стали появляться в центральном промышленном районе России в старых фабричных казармах. Отсутствие жилья и трудности материального характера, по-видимому, были самым серьезным основанием для создания коммун в среде рабочей молодежи. Это отразил художественный нарратив, в частности роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь»: «На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный район) пятеро создали маленькую коммуну. <…> Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на четвертый день… сияла комната еще не тронутой белизной. Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитых картоном, – это стулья. Ящик побольше – шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать… Все стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посылки – все делилось поровну. Личной собственностью осталось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны… и выселяется»168. В реальной жизни все было жестче и прозаичнее, о чем, в частности, свидетельствует пример жизни в коммуне текстильщиц из Иваново-Вознесенска, возникшей в 1923 году. 10 девушек создали в одной из комнат фабричного барака некое новое объединение под названием «Ленинский закал». Посуды у коммунарок практически не было: ели из общей миски, одни туфли носили по очереди. Коммунистическим в этом нищенском существовании был лишь портрет Л.Д. Троцкого – поборника борьбы за новый быт169.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю"
Книги похожие на "Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Лебина - Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю"
Отзывы читателей о книге "Cоветская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю", комментарии и мнения людей о произведении.