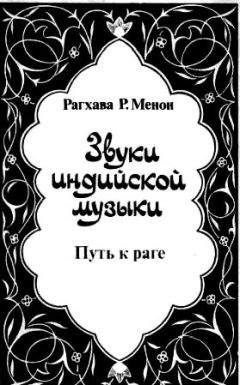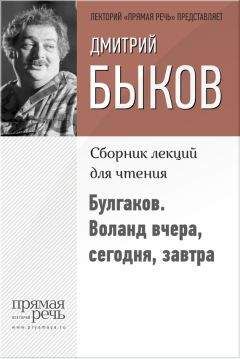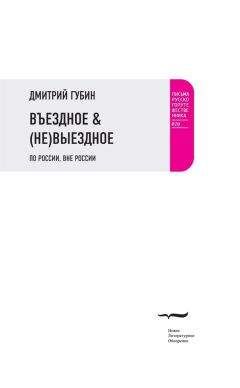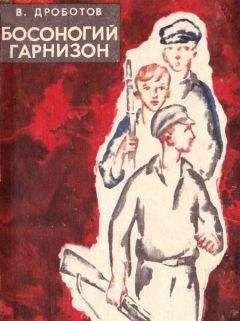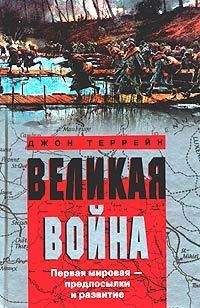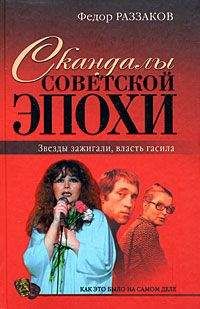Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Описание и краткое содержание "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые делается попытка восстановить историю рецепции классического музыкального наследия в советскую эпоху. Ее материал составляют как музыкально-критические и музыковедческие работы, так и политические документы, музыкальные, литературные и кинематографические произведения, источники по истории советского театра, различными средствами интерпретирующие смыслы классической музыки. Рассматриваются принципы и механизмы осуществленной в советскую эпоху «редукции» классического наследия, ее влияние на восприятие музыки массовым слушателем и на само советское искусство, роль в обретении идентичности «советская культура». Анализируется исторический контекст, в котором происходило омассовление «музыкальной классики» в советской культуре и формирование того ее образа, который в массовом сознании во многом остается действенным и сегодня.
<…> преимущество Обуховой состояло в непринужденной свободе, гибкости, теплоте и бархатистости голоса, который, так и кажется, пел сам по себе, словно самый редчайший прекрасный инструмент старинного мастера. Поразительная виртуозность и техническое совершенство пения Н.А. Обуховой выражались, между прочим, в том, что она путем неустанных упражнений блестяще побеждала трудности регистровых переходов, и голос ее от низов до верхов казался сделанным как бы из одного слитка577.
Другой «Хозе» Обуховой, Николай Печковский, писал о ней:
Н.А. создавала образ Кармен исключительно при помощи вокала и фразы. Ведь еще в ранней молодости она долгое время пела за границей, где постигла все совершенство вокальной техники. Она была единственной певицей, исполнявшей гаданье в третьем действии «Кармен» звуком, в котором слышался рок578.
При этом Обухова отчасти основала традицию той сценической трактовки образа, которая в конечном счете возобладала на советской сцене. «Моя Кармен была горда, царственна, величава в своей простоте», – объясняет она свое решение образа, и нельзя не признать, что не Мухтарова или Максакова, а скорее Давыдова, Обухова, Вельтер (в Ленинграде) и даже Софья Преображенская, которая по особенностям своей фактуры и вовсе не могла выйти на сцену в этой роли, но пела фрагменты партии в концертах, определили специфический для советской сцены образ Кармен – женщины монументальной и властной.
Но канон вокальной трактовки этой партии определился записью спектакля с Давыдовой (ее переиздания продолжались до 1987 года). Ее исполнение соответствовало сформированным представлениям о русском народном характере, вольная повадка становилась знаком свободолюбия, жесткость решений – знаком цельности характера (в отличие от непредсказуемости и изменчивости, которые акцентировались, например, европейскими певицами, кумирами Обуховой). Пластически это отражалось в характерной статуарности героини. Вокально – в крупном мазке, пренебрежении деталями, в выровненном «школьном» голосоведении, не нарушаемом ради гибкости и прихотливости фразировки, приверженности ритмической мерности музыкального движения. Отсутствие контакта с западным исполнительством и с иными культурами, ментальностями в их живом проявлении (о чем в этих случаях принято забывать!) прямо влияло на направленность изменений. И, конечно, сами утвержденные постулаты «народности», «революционности», «реалистичности» непосредственно изменили ощущение того, чем был «легкокрылый Эрос» для первых создательниц образа Кармен и как овеян он был в их представлении «гением места» Испании.
Наглядный пример того, насколько разошлись пути вокальных школ, предъявило легендарное представление «Кармен» на сцене Большого театра с участием Марио дель Монако в 1959 году. Противостояние двух традиций было почти демонстративно предъявлено языковой «разноголосицей» гастролера в роли Хозе и «хозяев» (хора и исполнителей сольных партий, включая заглавную).
Но принципиальный антагонизм заключался, конечно, не в «разноязычии» исполнителей (хотя фонетика языка является одним из решающих факторов в формировании вокального стиля). Отчетливо заметно другое: дель Монако интерпретировал свою роль под несомненным влиянием веристского репертуара, возможно бессознательно (но вполне справедливо!) осознавая «Кармен» как его прямую предтечу. Он воплощал трагедию жертвы собственных страстей и неумолимого фатализма судьбы. Ирина Архипова являла императив прямодушия, правды, предельной честности и душевной силы. Она создавала в своем роде непревзойденный по законченности и непротиворечивости образ «советской Кармен», органичный во всех своих составляющих. Ее скульптурный торс, русская стать, крупная пластика лица, прямолинейность сценических эмоций абсолютно совпадали с металлическим оттенком тембра, безупречностью регистровых переходов, непреклонностью ритма, особого рода «объективностью» исполнительской манеры, не предполагающей ничего случайного. К ее пониманию образа, кажется, вполне приложим тезис, сформулированный по другому, хотя и родственному поводу:
Действительно, женская тема (и женский образ) в русском кино (советского периода в особенности), как правило, оказывается связанной с темой мужской слабости или, во всяком случае, каких-то душевных изъянов мужских персонажей в сравнении с литым женским идеалом579.
Этот «литой женский идеал» явно укоризненно сопоставлялся с образом «слабого мужчины» не только в советском кинематографе, но и иногда на советской сцене, в том числе музыкальной. Пытаясь воплотить его современными средствами в своей опере «Не только любовь» (1961), Щедрин вывел в ней председателя колхоза, «родную сестру» героини Нонны Мордюковой из кинофильма «Простая история»580, поставив в центр ее высказываний своеобразный русский аналог Хабанеры – «Частушки Варвары». Но новая Кармен, отрекающаяся от своего «слабого» партнера не во имя другого, «сильного», а ради общего дела и (не в последнюю очередь) во имя сохранения своей собственной душевной силы и цельности, вступила в неравное соревнование с героиней старой классики. В отечественном театре Кармен к тому времени стала вполне советской женщиной, по-хозяйски выходя на сцену в окружении субреточных работниц и их невыразительных кавалеров, подобно партийной чиновнице, председателю завкома или директору табачной фабрики в большинстве позднесоветских интерпретаций.
Первая попытка оспорить сложившийся канон трактовки образа Кармен была предпринята не на оперной сцене. В апреле 1967 года в афише Большого театра появилось новое название – балет «Кармен» на музыку Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина и хореографии кубинского балетмейстера Альберто Алонсо. Очевидным адресатом эстетической полемики, развернутой его постановщиками, была привычная оперная интерпретация сюжета. Появление «новой Кармен» вызвало резкое неприятие официальных лиц, ведающих вопросами искусства. Исполнительницу заглавной роли Майю Плисецкую, Родиона Щедрина и директора театра М.И. Чулаки тогдашний министр культуры Е.А. Фурцева на обсуждении этой работы обвиняла:
Сплошная эротика. <…> Надо пересмотреть концепцию. <…> Вы… сделали из героини испанского народа женщину легкого поведения…581
Образ Кармен, как видим, для советского чиновника соотносится по меньшей мере с республиканкой Долорес Ибаррури, а вовсе не с персонажами романов Э. Золя или Ги де Мопассана, современников Бизе582. Но характерно, что и для постановщиков балета Кармен – тоже «героиня», только борется она с «тоталитарной системой». По крайней мере, так интерпретировались исполнительницей заглавной роли тогдашние намерения кубинского хореографа А. Алонсо, которые она с композитором, как видно, полностью разделяла:
Он хочет, чтобы мы прочли историю Кармен как гибельное противостояние своевольного человека – рожденного природой свободным – тоталитарной системе всеобщего раболепия, подчиненности системе, диктующей нормы вральских взаимоотношений, извращенной, ублюдочной морали, уничижительной трусости… <…> Кармен – вызов, восстание583.
Однако в интерпретации Плисецкой, как сценической, так и вербальной, риторика «героичности» связывалась с идеей индивидуализма, «вольность» трактовалась как «своеволие». Ее персонаж одинок среди толпы – «глазеющей равнодушной публики»584. Для Фурцевой же (и это, несомненно, выражение глубоко укорененного официального взгляда на художественный мир великой оперы) Кармен по-прежнему «народная» героиня, то есть героиня из народа, кровно связанная с ним.
Постановка Вальтера Фельзенштейна в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (1969) с ее характерной для этого режиссера жесткостью и определенностью концепции вызвала к жизни появление критической рецензии, весьма примечательной по новизне оценок образов самой оперы. Блестящее и энергичное эссе Г. Орджоникидзе как бы обозначило некий рубеж в отношении к шедевру Бизе, который начинает восприниматься уже не в контексте социальной проблематики, а возвращается к вечной теме «битвы полов», констатируя неоднозначность и этическую сомнительность поведения Кармен в отношении Хозе:
Нет, я не забыл, что в свое время ты бросила вызов буржуазному лицемерию и фальшивой «тихости» ее уюта. Ты призвана была разрушить картонный домик, старательно воздвигнутый господствующей моралью в защиту укрощенных страстей. Откровенность твоих желаний и упорство, с каким ты шла к цели, в какой-то мере эпатировали своей дерзостью и претензией на полную свободу воли.
Но сегодня, сто лет спустя, хотелось бы пристальней рассмотреть твою нравственную программу в ее соотнесенности с моральными ценностями самой жизни585.
Новый сценический поворот в судьбе «советской Кармен» в 1970-х годах явственно обозначила Елена Образцова. С присущим ей ярко выраженным личностным началом она впервые за многие годы реабилитировала мотив сексуальности, в то же время смыслово уравновесив его верностью героини своему «слабому» избраннику. Согласно многократно озвученной Образцовой концепции этого образа, Кармен провоцирует Хозе на поступок, который сделает его мужчиной в ее глазах, и погибает, благословляя и продолжая любить его. Это «бабье» сострадание, демонстрируемая певицей в финальной сцене русская «жаль», столь типично для женского национального характера сменяющая (или заменяющая) любовную страсть, продолжила перипетии народной ипостаси «советской Кармен» и предъявила по-своему вполне реалистический модус его воплощения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Книги похожие на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Отзывы читателей о книге "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.