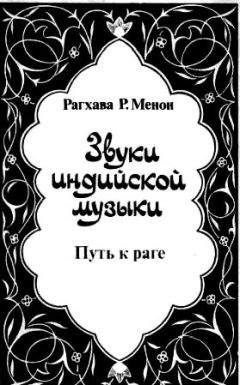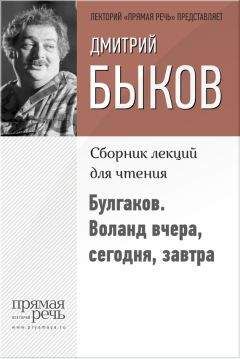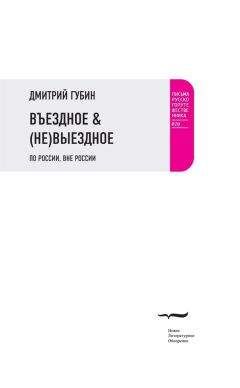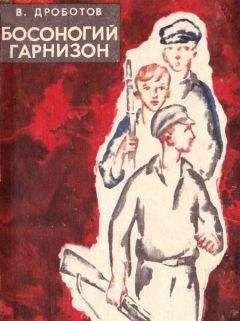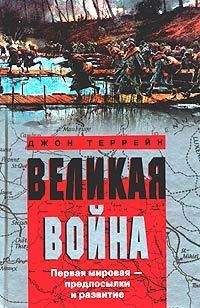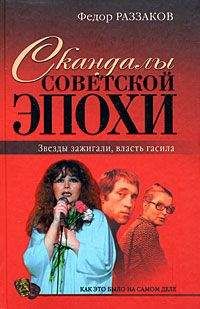Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Описание и краткое содержание "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые делается попытка восстановить историю рецепции классического музыкального наследия в советскую эпоху. Ее материал составляют как музыкально-критические и музыковедческие работы, так и политические документы, музыкальные, литературные и кинематографические произведения, источники по истории советского театра, различными средствами интерпретирующие смыслы классической музыки. Рассматриваются принципы и механизмы осуществленной в советскую эпоху «редукции» классического наследия, ее влияние на восприятие музыки массовым слушателем и на само советское искусство, роль в обретении идентичности «советская культура». Анализируется исторический контекст, в котором происходило омассовление «музыкальной классики» в советской культуре и формирование того ее образа, который в массовом сознании во многом остается действенным и сегодня.
И через десяток лет в полемике о путях современного композиторского творчества Верди остается чаще всего негативным примером. Так, в передовице журнала «Советская музыка» за 1940 год, открывающей дискуссию о советской опере и выражающей по традиции этого времени неоспоримую официальную точку зрения, говорится:
Нередко талантливые молодые композиторы, не нашедшие времени для того, чтобы овладеть техникой оркестровой полифонии, высокомерно декларировали «принципиальное» нежелание обогащать свой оркестр, кивая в сторону молодого Верди, у которого-де был в руках не симфонический аппарат, а «громадная аккомпанирующая гитара»390.
Вместе с тем сам принцип «усвоения» мирового классического наследия оставался общепринятым, и влияние его с годами лишь усиливалось. Следствием его становилось стремление превращать хорошую музыку в полезную. Широчайшая популярность Верди провоцировала советских музыковедов именно на такую интерпретацию. Со временем трактовка творчества Верди подвергается последовательной идеологической трансформации. Созданная мировой вердианой репутация Верди как «певца итальянской революции» и «видного деятеля Рисорджименто»391 становится его единственной и исчерпывающей характеристикой. Поэтому постановки вердиевских опер в самых разных вариантах определяются именно этим ракурсом оценки.
I.8. Верди в «революционизирующих» интерпретациях
Попытки всесторонне «революционизировать» вердиевские сочинения путем переделки либретто совершались на протяжении 1920 – 1930-х годов неоднократно. Этапной на этом пути представляется работа Станиславского в течение 1930-х годов в Оперно-драматической студии своего имени над постановкой «Риголетто»392. Ее главное значение заключалось не столько в художественном результате, сколько в воздействии самих прокламируемых задач этой работы на театральную практику и художественную идеологию времени. Уже режиссерские «поиски сверхзадачи» отчетливо продемонстрировали определенную тенденцию в подходе к сочинению В. Гюго – Дж. Верди. Вот материалы одного из первых обсуждений предстоящей работы:
Кристи393. Прежде чем приступить к работе, нам хочется получить от вас, Константин Сергеевич, некоторые указания, которые помогли бы нам сразу встать на верный путь. Ведь тема «проклятия», с которой начинается опера, красной нитью проходит через всю оперу. Это рок, довлеющий над человеческой судьбой.
Станиславский. Музыки точно не помню, но что же там?
Кристи. В интродукции проходит тема Монтероне, то есть его проклятье, которое потом имеет большое значение.
Станиславский. Очень трудно теперь на этом основать работу и оправдать события так, чтобы это было приемлемо для современной публики. Проклятье пойдет само собой, но не нужно подчеркивать его мистическую сторону. Если это в опере есть, то понимай как хочешь, но подчеркивать это сейчас нельзя. Здесь от мистической стороны нужно перейти на другую – более современную.
Лоран394. Что зритель получит, уходя со спектакля, в чем собственно здесь дело? Раньше уходили и говорили, что да, все-таки рок над человеком всесилен, управляет судьбой. А теперь?
Станиславский. Едва ли сейчас мистику нужно подчеркивать. Но есть какой-то фатум в самой фабуле, который довлеет над Риголетто, – это остается. Этого избежать нельзя. Это отражено в роли Риголетто, в его лейтмотиве. Но есть и другой лейтмотив – у Герцога. Это его характеристика. Весь Герцог сделан очень легким, а Риголетто тяжелым.
В опере показан быт дворца, в ней есть осуждение власти. Развратное правительство – это во всех случаях остается. Эту сторону можно сейчас подчеркивать, не потому, что мы хотим подойти в опере тенденциозно, но потому, что деспотизм всегда критиковался во всех либеральных произведениях и особенно в русских произведениях. Положительных образов у нас в литературе очень мало, у нас больше отрицательные. <…> Все-таки на первом плане, в той или другой форме, будут – угнетаемые и угнетатели. Это все-таки будет наиболее яркая краска в опере, и она не может быть другой потому, что это так на самом деле и есть… Ведь эта линия в музыке есть?
Муромцев395. Трудность в том, что в конце концов угнетаемые караются. В этом есть противоречие, особенно в смысле современного направления.
Станиславский. Но ведь в большинстве трагедий есть угнетатели и угнетаемые, и в конце концов угнетаемые погибают. Ведь если угнетаемые одержат верх, то тогда может выйти мелодрама, – в мелодраме всегда гибнет угнетатель.
Муромцев. Но в смысле современного звучания лучше было бы именно такое окончание.
Станиславский. Ну, что же – тогда посадите Герцога в мешок вместо Джильды… (cмех). Ведь все-таки сюжет не изменишь – она умирает. И ведь в жизни так бывает.
Алексеев396. Когда была написана эта опера, то хотели название дать «Проклятье Монтероне»397.
Станиславский. В то время мистика была очень сильна в сознании людей, но сейчас она не нужна.
Лоран. Новый текст, за исключением отдельных мест, поможет нам избежать мистики.
Станиславский. Это имеет очень большое значение.
Лоран. Но в процессе работы, возможно, будут изменения.
Станиславский. Это неизбежная вещь. Но во всяком случае это большой плюс для успеха дела, потому что это очень важно. <…> Как поймет это современный слушатель и зритель? Ведь это можно воспринять с точки зрения человеческого страдания, а не непременно мистики. Современный зритель даже не знает того, что для нас, стариков, казалось мистикой. Теперь ведь зрители подойдут по-другому. Вот именно: угнетаемые – страдающие, простые люди, угнетаемые и страдающие. И вот в первом акте, где показывается тюрьма, колодники – этот момент должен быть выделен. Увод Монтероне в башню – это нужно подчеркнуть. Целые толпы людей, три этажа тюрьмы… <…> Сыграйте музыку проклятья Монтероне в начале второго акта398.
Разговор в высшей степени показательный и прозрачный в смысле намерений и опасений членов постановочной группы. Станиславский говорит о себе как об одном из «стариков», для которых мистика была важной частью жизни, о чем «нынешние» представления не имеют: с современной позиции никакой мистики нет, а есть «угнетенные» и «угнетаемые». Слуховая нечуткость Станиславского и его музыкальный дилетантизм позволяют великому режиссеру драматического театра не только не услышать неоднократно возникающий на протяжении оперы единственный ее лейтмотив – «лейтмотив проклятия», но и причислить к лейтмотивам то, что им вовсе не является, – тематизм Риголетто и герцога. Анекдотично и забывание начала оперы постановщиком – самых первых ее и столь символичных тактов. В своих вынужденных поисках «контакта с современностью» Станиславский интерпретирует либретто оперы, минуя ее музыкальную специфику, которая может увести в опасную сторону. Либретто же, по общему признанию, требует переделки. Провести ее в нужном направлении будет поручено П.А. Аренскому399 – по парадоксальной логике одному из наиболее верных наследников мистических учений в советской России. Замена текста, о необходимости которой говорят участники обсуждения, весьма целенаправленна:
Герцог. Борса, послушай, забыл тебе сказать я, что в храме пленился чудной незнакомкой.
Борса. Верно, синьора княжеского рода?
Герцог. Нет, мещанка, дочь народа400.
История «Риголетто» «сдвигается», таким образом, к сюжету любимой в те годы театрами пьесы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» или оперы «Фенелла, или Немая из Портичи» Обера – Скриба (с обращения к этому сочинению Мейерхольдом в 1918 г. началось «революционизирование» оперного репертуара). Не случайно соблазнение «дочери народа» развратным властителем в «Риголетто» приводит, по мысли Станиславского, к «бунту шутов». Именно эта сцена была в его представлении кульминационной. Ради нее он вводил в действие этих постоянных спутников Риголетто, и ради нее на сцене возникал символ тюрьмы – трехъярусной, занимающей почти все пространство сцены, так что речь уже шла не только об оскорбленных отцах, но об угнетении всего народа. Сходную работу по переделке «Трубадура» собирались проводить в ЛГАТОБе по предложению его тогдашнего директора В.М. Городинского (но она не была осуществлена)401.
В результате подобной работы по «присвоению» Верди с середины 1930-х годов и в течение всех последующих десятилетий все его творчество трактуется как последовательное воплощение социальной темы. Так, например, согласно формулировке Б.В. Левика402 из позднесоветского учебника для музыкальных училищ, «композитора привлекала в драме Гюго социальная идея: противопоставление благородного простого человека, придворного шута Трибуле, переживающего большую трагедию, развратному королю Франциску I»403. Это положение с 1930-х годов оставалось незыблемым, переходя из издания в издание и, как мы видим, благополучно «дожив» до 1970-х. Основная же идея драмы Гюго «Король забавляется», положенной в основу оперы Верди, как сказано в том же учебнике, – «противопоставление моральной чистоты и благородства простых людей развращенности аристократа-герцога»404, а «идейная сущность оперы, как и драмы Гюго, – в осуждении того строя, который порождает социальное неравенство, в горячем сочувствии к угнетенным и поруганным в лице придворного шута Риголетто и его горячо любимой дочери Джильды»405.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Книги похожие на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Отзывы читателей о книге "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.