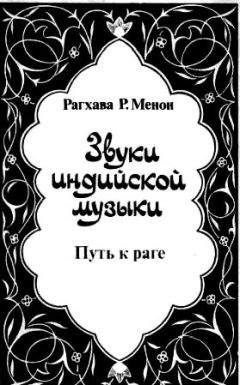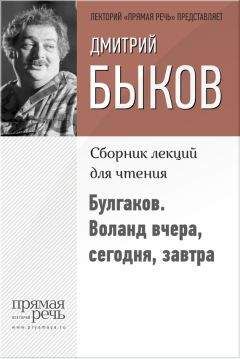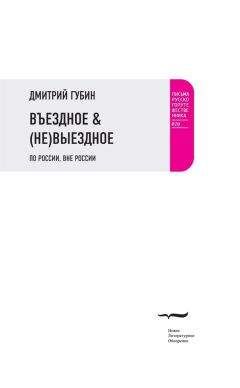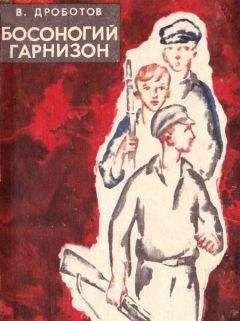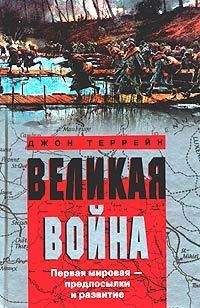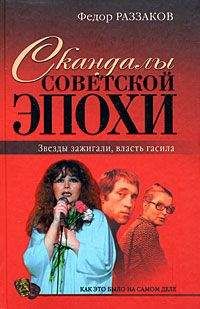Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Описание и краткое содержание "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые делается попытка восстановить историю рецепции классического музыкального наследия в советскую эпоху. Ее материал составляют как музыкально-критические и музыковедческие работы, так и политические документы, музыкальные, литературные и кинематографические произведения, источники по истории советского театра, различными средствами интерпретирующие смыслы классической музыки. Рассматриваются принципы и механизмы осуществленной в советскую эпоху «редукции» классического наследия, ее влияние на восприятие музыки массовым слушателем и на само советское искусство, роль в обретении идентичности «советская культура». Анализируется исторический контекст, в котором происходило омассовление «музыкальной классики» в советской культуре и формирование того ее образа, который в массовом сознании во многом остается действенным и сегодня.
В контексте искусства, ищущего разгадку реалистического метода на оперной сцене, когда даже деятельность Большого театра (на рубеже 1920-х годов) было решено подчинить художественному руководству МХТ для выработки реалистической эстетики в оперных и балетных постановках368, ближайшим образцом могло бы стать искусство итальянских веристов – наиболее явное, если не единственное, выражение реалистической эстетики в музыке. Луначарский даже связывает это направление не только с «Кармен», которая чуть позже получит в советском музыкознании устойчивую характеристику «реалистической музыкальной драмы» (о чем речь пойдет несколько позже), но и со стилевыми поисками Мусоргского в области передачи речевых интонаций – той сферы его новаторства, которая обретет особую цену в ближайшие годы:
Следующим этапом рода, созданного Бизе, была веристская драма, которая у нас дала попытку Мусоргского «Женитьба», [а] в Италии довела до Леонкавалло369.
Горестная констатация «довела до Леонкавалло», звучащая едва ли не эвфемизмом выражения «довела до беды», – не случайная оговорка. Как ни странно, нарком просвещения призывает не обращаться к веризму в качестве стилевой модели для советской оперы:
Веристскую драму вы все знаете. Эта итальянская школа дает мелодраму из жизни маленьких людей. Разыгрывается какой-нибудь конфликт, где получает развитие страсть любви, ревности и т.п. К этому роду музыкальной драмы мы должны отнестись отрицательно, так как тут, в сущности, не музыкальная драма, а драма с музыкой, драматизированная опера, но взаимопроникновения музыки и драмы, которое должно быть в настоящей музыкальной драме, нет370.
Луначарский видит в веризме опасную для судеб музыкального театра тенденцию «обытовления», «омещанивания» оперы371. Будущее музыкального театра видится ему в 1919 году в вагнеровско-ницшеанском облике «музыкальной драмы»:
Какая же музыкальная драма нужна для нашего времени? Музыкальное произведение, которое послужит основой для музыкальной драмы, должно быть задумано прежде всего как симфоническое произведение, заключающее в себе какие-нибудь гигантские чувства. Возникающие на почве симфонической картины те или иные образы будут иметь свое выражение в том аполлонийском сне, который будет в это время проходить на сцене. Аполлонийский сон на дионисийской основе372.
Для Луначарского мещанским театром является театр реалистический. Нарком свято убежден в том, что рабочему классу реалистический театр не нужен, не догадываясь о том, что новый зритель очень скоро начнет диктовать театру самые что ни на есть «мещанские» вкусы.
Характерно, что драма с музыкой, которую нарком, говоря о веризме, оценил как эстетически и идеологически сомнительный жанр, во второй половине 1920-х годов стала очень быстро развивающимся жанром советского музыкального театра. В числе сочинений подобного рода самыми известными стали «Северный ветер» (1930) Льва Книппера и «Лед и сталь» (1929) Владимира Дешевова373. Но «мещанское» (читай «человеческое», «индивидуальное») решительно выведено за пределы этих сочинений. Все они целиком и полностью посвящены революционной «массе», ее героизму, жертвенности и историческим свершениям.
В то время, когда Немирович-Данченко в Музыкальном театре своего имени занимается выработкой канона «советской оперы» в образе «советской пьесы с музыкой»374, его вечный оппонент, соратник и соперник Станиславский, словно бы в пику этим поискам, ставит «Богему» Дж. Пуччини на сцене собственной Оперной студии (1927). Причины обращения к этому названию парадоксально формулируются этим заядлым реалистом и одновременно старым поклонником итальянской оперы (!) как возражение против примата драмы над музыкой:
В этой постановке мы исходим из тех же принципов, которые вложены вообще в работу Оперной студии. Мы идем от музыки. Мы стремимся понять, что хотел композитор передать в своем музыкальном творчестве, объяснить каждую паузу и каждый аккорд и выразить все это в соответствии с психическими переживаниями артиста и его драматическими действиями. <…> Опера Пуччини «Богема» взята для постановки в нашей Оперной студии не случайно. Я смотрю на Пуччини как на одного из таких композиторов, которые наиболее подходят к осуществлению в условиях поставленных задач375.
Однако веризм все же не стал сколько-нибудь влиятельным стилистическим ориентиром для советских композиторов по двум важным причинам. Во-первых, упреки в сходстве с веристскими способами высказывания – якобы устаревшими и «избитыми» – были «дежурным блюдом» критических выступлений, адресованных советской опере в первое десятилетие ее существования, хотя не имели под собой реальных оснований. Веристы привычно упоминались в обвинительных пассажах раннесоветской критики через запятую с одиозными на тот момент русскими классиками. Во-вторых, в музыке сходную с веризмом проблематику освоил немецкий экспрессионизм – но позже и с иными акцентами. Экспрессионизм воспринимался как более новое, свежее веяние.
Советские композиторы с увлечением погрузились в мир музыки Альбана Берга и с запозданием (в СССР) вошедшего в моду Густава Малера, одного из предшественников экспрессионизма. Ярчайший пример такого «погружения» – «Леди Макбет Мценского уезда», где Шостакович взял за основу сюжет, из которого могла бы родиться «правильная» веристская опера: кровавая история физиологических страстей, разворачивающаяся в «темной» патриархальной деревенской среде (для экспрессионизма гораздо привычнее городской пейзаж, как и в целом урбанистическая тема). Но осмыслялся этот сюжет через призму экспрессионистского гротеска, вовсе не свойственного веризму. Современная же критика (еще до выхода печальной памяти редакционной статьи «Сумбур вместо музыки») расслышала в звучаниях оперы исключительно «австро-немецкий» звуковой комплекс от Вагнера до Малера376.
Еще более двусмысленным, чем к веризму, было отношение идеологов советской музыки к творчеству Джузеппе Верди. С одной стороны, его имя значилось практически в любой оперной афише российских столиц или провинциальных городов. С другой стороны, идеологическая оценка его сочинений сформировалась не сразу, а потому вокруг их легитимности разгорались жаркие дебаты.
Музыка Верди – и только она! – оказывается олицетворением старого искусства в «Открытом письме рабочим» Маяковского (1918):
К вам, принявшим наследие России, к вам, которые (верю!) завтра станут хозяевами всего мира, обращаюсь я с вопросом: какими фантастическими зданиями покроете вы место вчерашних пожарищ? Какие песни и музыки будут литься из ваших окон? Каким Библиям откроете ваши души?
С удивлением смотрю я, как с подмостков взятых театров звучат «Аиды» и «Травиаты» со всякими испанцами и графами, как в стихах, приемлемых вами, те же розы барских оранжерей и как разбегаются глаза ваши перед картинками, изображающими великолепие прошлого.
Или, когда улягутся вздыбленные революцией стихии, вы будете в праздники с цепочками на жилетах выходить на площадки перед вашими районными советами и чинно играть в крокет?
Знайте, нашим шеям, шеям Голиафов труда, нет подходящих номеров в гардеробе воротничков буржуазии…377
Воскресный крокет и цветочные оранжереи причудливо совмещаются с упомянутыми операми Верди, не располагающими ни одним из этих атрибутов. Перечень, общим «знаменателем» которого является разве что театральный гардероб, обессмысливает и сами упомянутые в открытом письме музыкальные сочинения. В руках поэта-футуриста они превращаются в ту «ветошь старого искусства», которая погибнет в очистительном «взрыве Революции духа»378.
В первые же месяцы после Октябрьской революции на афишах обоих московских оперных театров значится «Травиата», в Большом идет «Аида», в театре Зимина – «Риголетто». Рядом с ними в предреволюционные годы значились также «Фальстаф», «Отелло», «Дон Карлос» и «Бал-маскарад». На несколько лет этот и без того далеко не полный список вердиевского наследия оказывается не только усеченным до трех названий, но и постоянно находится под угрозой дальнейшего сокращения. Причина – гонения на оперных «царей и бояр» со стороны «идейно грамотных» рабкоров. «Аида» как «опера про жрецов» вызывает особую неприязнь – Луначарский вынужден «отбивать» ее у критиков, заявляя:
Я знаю многих людей, до умопомрачения любящих «Аиду» и при этом принадлежащих нашей партии379.
Действительно, постановка Большого театра 1922 года380 пользовалась у публики чрезвычайным успехом. Не желая признавать очевидное, в спор с наркомом по поводу «Аиды» вступил в 1923 году Керженцев, в сущности говоря не столько о ней, сколько о самом жанре и его перспективах в Советском государстве:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Книги похожие на "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марина Раку - Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи"
Отзывы читателей о книге "Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.