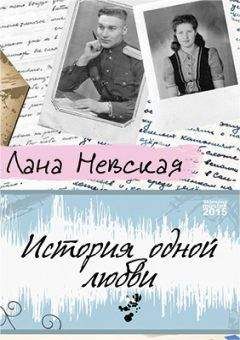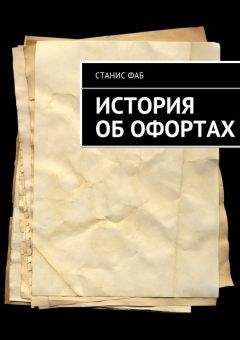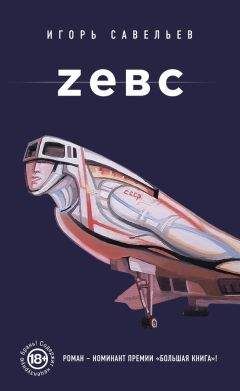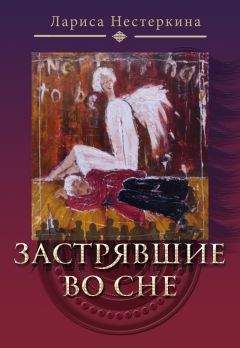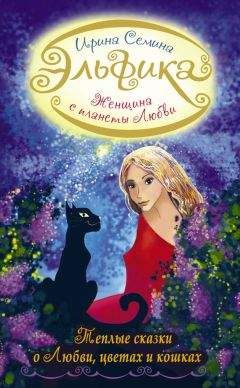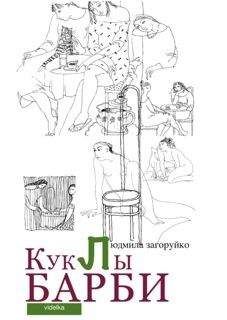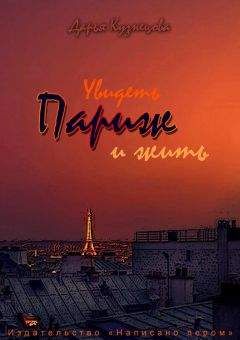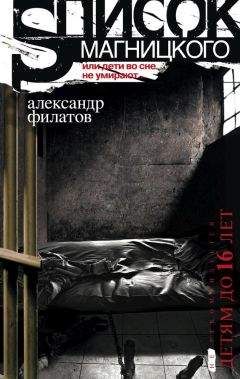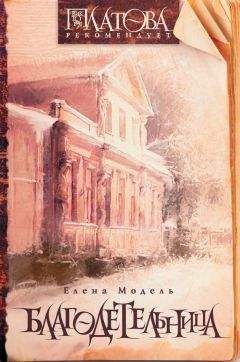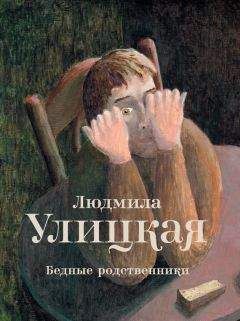Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Германтов и унижение Палладио"
Описание и краткое содержание "Германтов и унижение Палладио" читать бесплатно онлайн.
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
Германтов и не подозревал, что вскоре будет эту муру штудировать на уроках, а ударные высокоидейные фразы Белинского заучивать наизусть, хотя – вынужденно заучивать: промыванию мозгов, пройдя школу Анюты, он уже не поддастся; и вспоминать будет Анютины слова о том, что истину – если не азбучная она, как дважды два четыре, понимаешь? – в принципе, нельзя очертить и высказать, истину откровения здравый смысл, хотя я привержена так ему, вообще уничтожает, понимаешь – уничтожает? Недаром истина и в больных исступлениях-откровениях Достоевского лишь смутно угадывается, а – волнует, даже бурю может поднять в душе, истина Достоевским будто бы с разных сторон осмотрена, он – у кого-то из русских философов вычитала Анюта – будто бы многоглазый, у него будто бы не одно, а несколько зрений, вот искомая истина и двоится, троится… И не понять никак, дар многоглазия – проклятие или благословение? И знаешь, что, как подозреваю я, усугубляло его болезнь? Он неистово искал истину, понимая, что в России истина никому не нужна. А из его больных фантазий, как кажется, и поныне суждено рождаться особенным, причём самым омерзительным, с чертами, утрированными дьявольщиной, злодеям!
– Был, Юрочка, – скорбно вздохнула, брезгливо поморщилась, – был такой эсеровский террорист-бомбист и по совместительству полицейский провокатор Азеф – и террорист, и полицейский в одном, мягко говоря, безобразно отталкивавшем лице, лице двурушника, понимаешь? Я отчётливо помню день, когда террористы убили Плеве, министра полиции: мы с Липой сидели в кафе, ему стакан портера подали, знаешь, такой сорт пива, тёмный и густой-густой, с коричневой пеной – врач портер прописал ему для профилактики малокровия, – а я пила чай, официант разносил газеты. Плеве я не жаловала, куда там, он, министр, позорно бездействовал в дни кишинёвского погрома, однако… Я в ужасе была, вся либеральная Россия, не желая думать о последствиях, рукоплескала терактам. Понимаешь? Ещё в прошлом веке студенты и курсистки прониклись сочувствием террористам, и что из их сочувствия выросло? Русская интеллигенция готовила революцию, а потом сама же этой революцией была уничтожена… От кровавой невероятности происходившего мне и почудилось попозже, когда Бурцев уже Азефа разоблачил, а Столыпин честно выступил в Думе и прояснилось, кто и что в Охранном отделении делал, что Азеф этот, руководивший подрывом своего начальника, своего министра, реальный во плоти, к сожалению, абсолютно реальный Азеф, выдуман и до своей последней гнуснейшей чёрточки вылеплен-выписан Достоевским!
Остановилась…
– Юрочка, ты понимаешь меня? Азеф всего-то одним из бесов был, которые тогда расплодились, но был он всё-таки не романным бесом, а живым, из мяса и костей, понимаешь?
Одним из бесов?
А народовольцы, которым сочувствовали студенты и курсистки, чем-то отличались от бесов?
И вдруг сказала:
– Хирург Дитрикс, находившийся у смертного одра Столыпина, вспоминал, что Столыпин хотел помиловать своего убийцу. Я, Юрочка, недолюбливала Столыпина, но за цельность характера и государственный ум ценила его, в нём реформатора от охранителя-ретрограда никак я не могла отделить, понимаешь? Может быть, такая нераздельность и нужна для естественности развития, может быть, реформатор и охранитель и должны совмещаться в одном лице – в государственном лице, понимаешь?
Бесов, бесов, – застучало в виске, – каких бесов? Прежде всего, он понятия не имел кто же такие Бурцев, Столыпин… Только и не хватало ему для узнавания-понимания свидетельств хирурга Дитрикса, и вовсе уводящих куда-то в сторону… Какая связь была между убийцей Столыпина и… Бесовская?
– Или, – помолчала, очевидно, мысленно перебирая в паузе имена злодеев-большевиков, которые она принципиально, для поддержания природной своей нравственной чистоплотности не желала произносить вслух, – или… Разве в шаржированном фюрере, бесноватом выродке, слепленном из натурального человечьего мяса, костей, волос, трудно увидеть фантастическое творение? – содрогнулась. – Усики, чёлка. Неужели это обычный, естественный продукт эволюции? А китель, сапоги? Это лишь одежды времени на Великом инквизиторе, предвиденном гением на все времена? Но, Юрочка, с какого боку на провидческий дар нашего мрачного гения, Достоевского, ни посмотри, догадываешься, что ни за что нельзя познать истину истоков-исходов во всей её полноте, ни за что, понимаешь? Потому и мир весь-весь понять-познать в его сверхфантастической сложности и полноте нельзя, и человека отдельного, который такой же сложный, как целый мир, тоже нельзя пониманием-познанием исчерпать. Что же до прямых писательских поучений, утверждений, будто бы практичных вполне предвидений, то как раз практичного-то смысла-резона в них никакого нет… – и, посмеивалась, заглядывая Германтову в глаза. – Велик пророк Достоевский, велик и как исторический прорицатель, а разве стал «нашим» Константинополь?
Но тут же… Неужели маленькая и слабенькая, еле живая Анюта была прожжённой империалисткой? Она, будто бы мирно споря сама с собой, спрашивала: а если бы революция не помешала войну до победного конца довести, Достоевский бы оказался прав, мы бы получили Константинополь?
И… Анюта, готовясь к очередному мучительному шажку, уже подбадривала себя наставлением Достоевского: страдать надо, страдать. И добавляла, как бы театрально бросая реплику в сторону:
– Я без задних ног уже, факт, но я не так глупа, чтобы поверить в силу, способную искоренить человеческие страдания, – и недоумевала: – О страдании, о зле он так страстно, так сильно пишет, а о добре, о любви – как-то безвкусно-сладко, – улыбнулась, – правда, безвкусно-сладко; противоречиво точная игра из двух слов получилась у меня, понимаешь?
Шагнув, спрашивала:
– Скажи, Юрочка, ты можешь себе представить чёрта в клетчатых брючках?
Он не знал, что ответить.
Но у неё уже был наготове новый вопрос:
– А это, Юрочка, как понять: человеку сколько счастья надо, столько же и несчастья надо ему?
Молчал растерянно…
А теперь понимал саму сверхзадачу её вопросов, напоминал себе раз за разом, что, ничего не рассказывая такого, что непременно рассказывают детям на правильных, настоящих уроках, она умела зацепить, заинтриговать.
– Гений всем мешает, всех раздражает, он, всегда единственный в своём роде, непрошенный и непредусмотренный, будто бы является вопреки усреднённой всеобщей воле и выкидывает как в искусстве своём, так и в жизни фортель за фортелем. Вот и мне, превозносящей Достоевского за многоглазый поиск высоких и глубоких истин, вроде бы им же озаряемых каким-то высшим безумием, никак он не угодит: ну с какой стати он в зале Дрезденской галереи, заполненной чинными экскурсантами, в ботинках демонстративно на бархатную банкетку залез и нагло долго стоял над всеми? Раскапризничался бородатый ребёнок? Или нагло на банкетку залез, чтобы «Христа в гробу» удобнее было ему одному рассматривать поверх голов презираемых им бюргеров-буржуа? Дикая выходка? Нет, скорее всего специально и демонстративно он над этой публикой вздумал возвыситься, чтобы поизмываться, заодно и немца-служителя, у которого глаза на лоб вылезли, хотел позлить. И можно ли гения пристыдить за такой проступок, ведь гений – заложник своих демонов, понимаешь? Дальше – больше: гений из гениев, а безвольно сходит с ума от игры на деньги и перед дамами сердца, жалко и безвкусно воспламеняясь, если верить его собственному дневнику или дневнику последней жены-стенографистки, почему-то как подкошенный валится на колени, ползает по полу и подолы платьев целует… Это разве не знаки душевной слякоти? Но, – колюче посмотрела на Юру, будто ждала немедленной реакции, – отчего же я, приверженная приличиям и здравомыслию, шпионю за гением, истлевшим давно в могиле: немецкие игорные дома инспектирую, краснея до кончиков ушей от стыда, залезаю в чужие будуары? Я всё думаю – если б он не сгорал от порочной страсти к игре, не целовал мокрые и солёные от его горюче-жалких слёз подолы, может быть, и писал бы хуже? Это для меня всё тот же больной вопрос, который я, пусть сузив и упростив его, задавала по поводу романтичных союзов Брюллова и Самойловой, Левитана и Кувшинниковой, помнишь? Или каждый любовный случай-экстаз – особый и неповторимым образом каждое из любовных умопомрачений на художества с писательствами влияет? И не из-за таких ли вот реальных умопомрачений он в великих романах своих безвкусно так любовь переслащивал? У меня всё это уже не умещается в голове. А ты, Юрочка, представь, сам себе представь, если сумеешь пораскинуть молодыми мозгами и фантазию свою напрячь до предела, кому ещё на всём белом свете выпало бы вздорную инфернальную дамочку так безоглядно, так неистово преследовать в Кёльне, чтобы красы и гордости Кёльна, высоченного исполинского готического собора, хотя поезд почти к входу в собор подвозит, там курьёзнейшим образом не заметить? Что это – многоглазое ослепление? Да и как вообще писал он, доставая высшие смыслы и живейшие картины из глупой и мелкой подозрительности своей, из вздорных приступов бешенства и надуманных обид, из метаний, из мнительности, вспыльчивости и низкого сладострастия? В гении столько всего намешано, столько в нём, прозорливце, и светоносного, и мрачного, гадкого, даже – грязного, он так пугает кричащими своими противоположностями, которые, позволю себе заметить, терзают-корёжат перво-наперво душу самого гения. Читая, к вечным тайнам прикасаясь пугливо, чувствовала, что неизлечимо искорёжен он сам, понимаешь? К всепрощению и любви, к спасению всех гонимых зовёт, а в стыдливом закуте своей широкой души прячет и холит примитивное манихейство? Или пуще того – прикармливает во всечеловеческой и отзывчивой своей душе зверя? Я – не из робкого десятка, но я чую горячее дыхание зверя, слышу рычание, вижу его клыки. Юра, ты следишь за выражением моего лица? Ты не ошибся: светлое чело моё тень накрыла. И знаешь, – вновь с колючим вниманием посмотрела, – чем всерьёз отвращал меня Достоевский? Ненавистью к евреям, глухой и тупой, патологически-необъяснимой какой-то для глубокого писателя ненавистью. Причём отвращение моё питала не только врождённая обида, уже тысячелетия свойственная евреям, которым не устаёт напоминать о ней голос предков, нет, я никогда бы не позволила себе спутать гения с черносотенцем! Нет, он гений, гений – твердила себе. Хотя, между нами говоря, на кое-каких страницах, будто бы специально для разжигания чёрных страстей адресованных своре озлобленных ничтожеств, с черносотенцем трудно было его не спутать! Ум непостижимого гения меня отвращал вдруг своей убогостью, а проницательные глаза гения тотчас же застилались злобною тьмой. И поэтому я, – заулыбалась, – с присущей мне наивностью и бескорыстной пытливостью попыталась как-то сама с собою обсудить больную тему, но в добросовестно-логичных рассуждениях своих, признаюсь, не преуспела, даже на йоту не приблизилась к пониманию. Для Достоевского евреи не народом были, а – поголовно – низким корыстным племенем; он, как и подобало поборнику добра, писал, что своё ли, общее счастье нельзя строить на страдании других, а на глумлении над другими, на отвержении других – можно? Скажи, Юрочка, я похожа на дикарку из презренного племени? Не по причине ли болезненной ненависти, угнездившейся в душевных потёмках, и обрёл злоязычие наш гениальный, всемирно отзывчивый доброхот, многоглазый наш соискатель истины, а христианство самого Достоевского стало каким-то воспалённым, почти безумным? Это ведь всё равно, что Библию надвое разрывать, Ветхий и Новый Заветы стравливать…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Германтов и унижение Палладио"
Книги похожие на "Германтов и унижение Палладио" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио"
Отзывы читателей о книге "Германтов и унижение Палладио", комментарии и мнения людей о произведении.