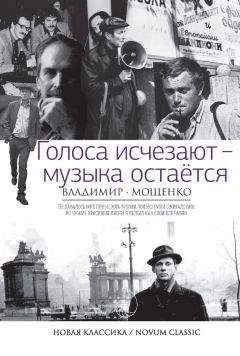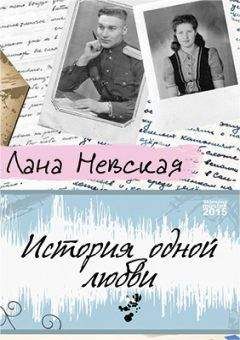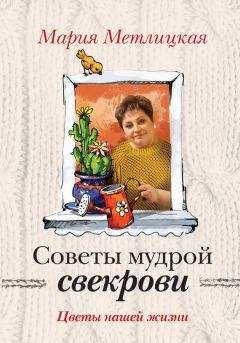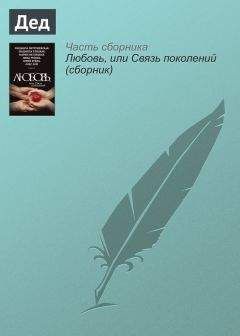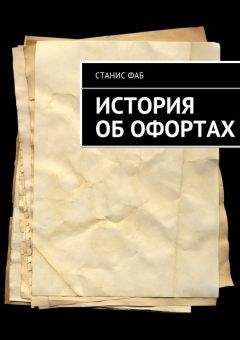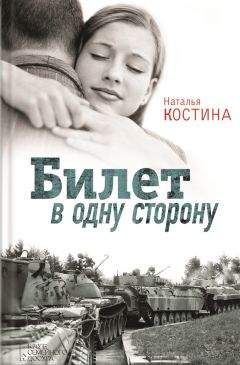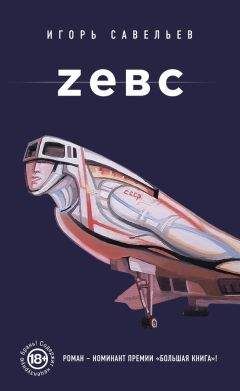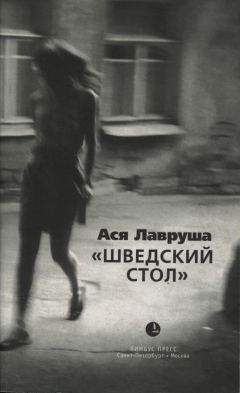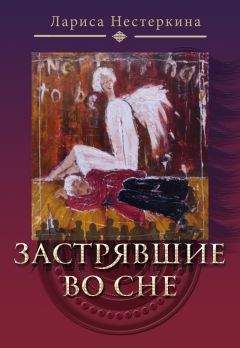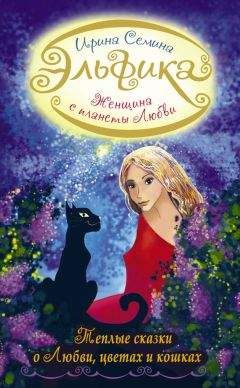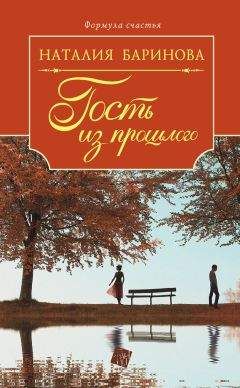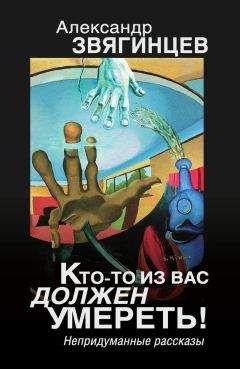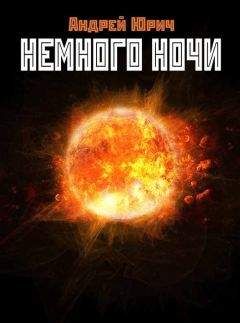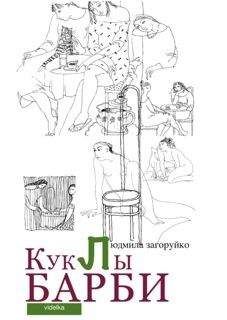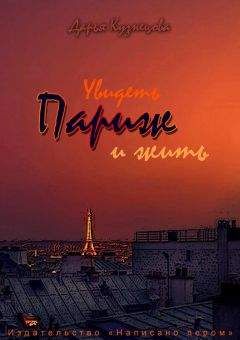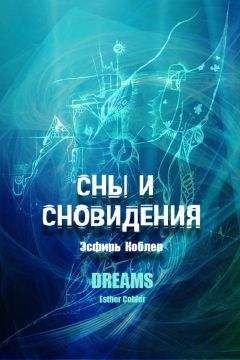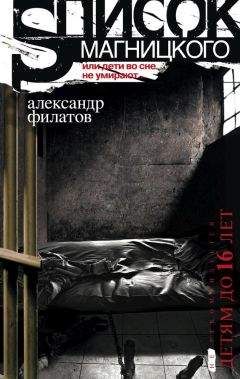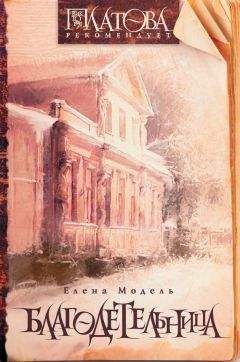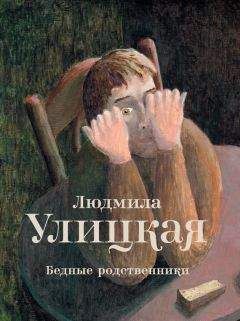Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Германтов и унижение Палладио"
Описание и краткое содержание "Германтов и унижение Палладио" читать бесплатно онлайн.
Когда ему делалось не по себе, когда беспричинно накатывало отчаяние, он доставал большой конверт со старыми фотографиями, но одну, самую старую, вероятно, первую из запечатлевших его – с неровными краями, с тускло-сереньким, будто бы размазанным пальцем грифельным изображением, – рассматривал с особой пристальностью и, бывало, испытывал необъяснимое облегчение: из тумана проступали пухлый сугроб, накрытый еловой лапой, и он, четырёхлетний, в коротком пальтеце с кушаком, в башлыке, с деревянной лопаткой в руке… Кому взбрело на ум заснять его в военную зиму, в эвакуации?
Пасьянс из многих фото, которые фиксировали изменения облика его с детства до старости, а в мозаичном единстве собирались в почти дописанную картину, он в относительно хронологическом порядке всё чаще на сон грядущий машинально раскладывал на протёртом зелёном сукне письменного стола – безуспешно отыскивал сквозной сюжет жизни; в сомнениях он переводил взгляд с одной фотографии на другую, чтобы перетряхивать калейдоскоп памяти и – возвращаться к началу поисков. Однако бежало все быстрей время, чувства облегчения он уже не испытывал, даже воспоминания о нём, желанном умилительном чувстве, предательски улетучивались, едва взгляд касался матового серенького прямоугольничка, при любых вариациях пасьянса лежавшего с краю, в отправной точке отыскиваемого сюжета, – его словно гипнотизировала страхом нечёткая маленькая фигурка, как если бы в ней, такой далёкой, угнездился вирус фатальной ошибки, которую суждено ему совершить. Да, именно эта смутная фотография, именно она почему-то стала им восприниматься после семидесятилетия своего, как свёрнутая в давнем фотомиге тревожно-информативная шифровка судьбы; сейчас же, перед отлётом в Венецию за последним, как подозревал, озарением он и вовсе предпринимал сумасбродные попытки, болезненно пропуская через себя токи прошлого, вычитывать в допотопном – плывучем и выцветшем – изображении тайный смысл того, что его ожидало в остатке дней.
И он вспомнит Анюту, когда и сам полночи пропьянствует в кабачке «У чаши» – в том вечном, все войны и дружеские социалистические оккупации пережившем, развесёлом дымном вертепе, конечно, вспомнит, попивая «Пильзенское», то самое, с неповторимой отдушкой хмеля.
Анюте было ужасно приятно думать, что её вспомнят…
А кто его вспомнит, кто? Далековато было, но доносились тоскливые гудки с перекрёстка… С набережной Карповки машины никак не могли свернуть и выехать на Каменноостровский?
Кто его вспомнит? Разве что – Игорь, больше вспоминать некому.
– Но покинули мы райские кущи… – о чём она?
И сразу, на ближайшем щите: «ЛАРИСА ГЕРМАНТОВА-ВАЛУА, вечер романсов», – читал Юра по складам, как бы хвастаясь, к радости Анюты, своим новообретённым благодаря её настойчивости умением, но в то же время не очень-то и веря, что эта роскошная, с крупными бордовыми буквами афиша приглашала на концерт мамы… Тот концерт в Малом зале Филармонии имени Глинки записан был на пластинку. «Гори, гори, моя звезда, гори, неугасимая», – пела мама, и он мысленно следил за подвижной, глубинной, гибко оконтуренной жирно-алыми губами тёмнотой её открытого рта. После аплодисментов и откашливаний наступала мёртвая тишина, и красивый грудной, взволнованный, неожиданно звонкий голос объявлял: Булахов, «Свидание».
«Лариса Германтова-Валуа» – всё-таки лучше, чем «Лариса Синеокая», – подумал Юра и сжал ладошку Анюты.
И – шажок, ещё шажок – Анюта выпевала строчку-другую из какого-нибудь исполняемого мамой романса, и вдруг замирала, и вдруг, будто кто-то одёрнул её, предупреждала с максимально доступной ей строгостью в голосе:
– Запомни, Юра, нельзя сбрасывать гору необходимостей с плеч долой, чтобы постоянно порхать среди звёзд, нельзя…
Он порхал среди звёзд? Или – хотел порхать?
И – шажок, шажок.
Кто кого вёл за руку?
Шажок, ещё шажок… но куда удаль подевалась? Прошептала:
– Совсем безногая, совсем… а всё путь свой от самых истоков, ab ovo, понимаешь, снова хочу пройти, – и заулыбалась: – Совсем безногая, а будто бы – сороконожка. Знаешь, Юрочка, почему это я – сороконожка? У меня – не одна ахиллесова пята, и даже не две… Из-за уймы недостатков своих я многократно уязвима.
Пожалуй, всё же она вела.
* * *Ни на мгновение не забывала о главном, о сверхзадаче развлекательно-воспитательного мероприятия: упрямо, и впрямь с лютеровской непреклонностью, вела Юру к Витебскому вокзалу – не только потому, к примеру, что сентиментальность замучила, ибо с этого вокзала по-прежнему отправлялись поезда в Киев, где в это самое время вполне могли зацветать акации, но и потому, надо думать, что в качестве пространственно-многолюдного контрапункта к словесным романтическим излияниям-восторгам своим хотела показать ему, именно показать, жизнь такой, какая она была, есть и будет на самом деле, показать, как говорила Анюта, вмиг перелицовываясь в поборницу реализма, даже натурализма, грубое до неприглядности кипение жизни со всем её свинством, но – в оболочке прекрасной архитектуры. А Юра, пока они медленно-медленно приближались к невидимой пока цели, к обещавшему материализоваться при приближении к нему миражу, озирался, вертел головой и шёл, по определению Анюты, задом наперёд. Ему нравилось с нелепого бульварчика посмотреть назад, на свой угловой, с большим, славившимся диетическими продуктами гастрономом, дом; этот дом так выделялся среди прочих окрестных домов башней, фигурными фронтшпицами, эркерами с чугунными, увитыми ажурными перилами балкончиками на них, на пятом, последнем этаже. И вот уже вырос-возмужал Германтов, закончил вполне успешно университеты свои, заслужил в своём кругу второе, уважительно-неформальное, имя ЮМ, снискал лекциями и книгами своими известность, причём, напомним, не только отечественную известность, но и международную, короче говоря, состоялся по всем статьям, высших научных степеней и престижных премий удостоился и даже уже незаметно для себя самого состарился, да и прижился-то он давным-давно на Петроградской стороне, на одной из милых поперечных улочек между Большим и Малым проспектами, а всё оборачивается по детской привычке, когда вдруг, раз за несколько лет, не чаще, заносит случай его на тот памятный, хотя уже с разросшимися деревьями и без газетных стендов бульварчик; и трамваи там не ходят уже, ни по Загородному, ни по Звенигородской, не грохочут, не заворачивают со скрежетом – закатаны в асфальт рельсы… И если доведётся вам синхронно, заодно с Германтовым, вдруг обернуться, заставив и самоё время сделать попятный шаг, на одном из балкончиков, среднем на протяжённом фасаде, до сих пор – присмотритесь-ка, присмотритесь! – можно будет увидеть застывшего в гордом и задумчивом одиночестве, раскуривающего трубку Якова Ильича Сиверского. А уж когда особенно повезёт подгадать с помощью случая сезон и погоду, можно будет в мерцаниях белой ночи увидеть Сиверского в компании с развесёлыми пьяненькими гостями, азартно толкающимися из-за тесноты балкончика за спиной Якова Ильича, в залитом электричеством проёме балконной двери: гости что-то кричат нам, стараясь перекричать самих себя, счастливо кричат и смеются, и по команде Сиверского – раз, два, три-и-и! – выпускают в опаловое небо стаю разноцветных воздушных шаров. Но прежде всего выделялся дом богатством и разнообразием отделки – солидностью полированного красного гранитного цоколя, огромными арочными окнами гастронома – арки облицовывались таким же красным и полированным, как и цоколь, гранитом; да ещё были на высоту двух, первого и второго, этажей рустованные пилястры из тёмно-бурого рваного камня, и вставки – между пилястрами – поблёскивали сизой керамической плиткой; дом выделялся основательностью и даже каким-то шиком.
* * *И достигали они большущего, едва ль не бескрайнего, пустыря, в который невнятно упиралась Гороховая – Германтов отлично запомнил, что Анюта подчёркнуто, с неизменной твёрдостью своей выговаривала: «Гороховая»; имя Дзержинского вслух произносить не желала, и затем, за глубоким вздохом, следовала фраза, совсем тогда непонятная:
– Здесь, Юрочка, казнили, вернее, намеревались казнить Достоевского, но царской или, вернее сказать, божеской милостью в последний момент смертную казнь заменили каторгой. Достоевский, взойдя на чёрный эшафот, думал вот здесь, где мы стоим, вернее, в каких-то двух шагах от места, где мы стоим, что прощается с жизнью. А как он мог не прощаться? Его ранним зимним утром привезли с подельниками из Петропавловской крепости в сопровождении конных жандармов с обнажёнными саблями, вокруг выстроились в каре войска, ему и мешок надели на голову, в барабаны начали бить, запомни это страшное место, запомни, здесь ведь и народовольцев потом казнили, но их, исторически безмозглых и озлобленных маньяков, бездушно-жестоких, хоть по заслугам потом казнили, за то казнили, что цареубийством они бредили и взорвали-таки царя-реформатора, – и ни словечком дополнительным не обмолвилась, – кто такой был этот Достоевский, за какие реальные провинности хотели его казнить и почему решили помиловать; а кто такие всё же были народовольцы? Ни одного имени жестоких и исторически безмозглых, поскольку никому воли не принесли, врагов самодержавия не назвала; сколько, однако, достойных имён впервые услышал он от Анюты.
И через два-три шажка напряжённого молчания, через два-три шажка справочных сообщений – там, где казнили, был потом ипподром, я там два лета выездке обучалась, брала барьеры, а зимой каток заливали, – Анюту прорывало.
– За что Достоевского хотели казнить? Не поверишь! Шили ему, как водится у нас, смертельно боящихся бесцензурного печатного слова, подпольную типографию, но не забудем о главном: за чтение-обсуждение в кружке друзей-единомышленников письма Белинского Гоголю хотели казнить, вот за что! С Белинского-то, когда-то самого Пушкина за повести Белкина в пух и прах разругавшего, что возьмёшь? Взбрело ему на умишко, что литература должна быть учебным пособием по правильному изменению жизни, вот и накатал он свою назидательно-претенциозную муру и как невольный провокатор вошёл в историю: гения Достоевского потом, найдя глупый повод, за чтение той высокоидейной муры охранители неизвестно каких устоев-порядков надумали в лапы палача сдать… Чего так Николай Павлович опасался? Декабристский бунт его на всю царскую жизнь перепугал? Да ещё потом во Франции последнего, – или предпоследнего? – ничтожно-декоративного Бурбона скинули, а нетерпеливые поляки-инсургенты, бредившие восстанием, тихой сапой в петербургских салонах обосновались, в тех самых салонах вольномыслия, где тогда и читали-обсуждали, как прокламацию, то письмо. Ох, как было не перепугаться, когда эпидемия революций и восстаний пронеслась по Европе, а своих поганцев-негодников, готовых трон опрокинуть, пруд-пруди, хотя… Может быть, интуиция замучила Николая Павловича? Были две абсолютные и самые пышные в Европе монархии, французская и русская, и вот французская монархия в крови утонула… и, может быть, предчувствал наш самодержец кровавую участь русского трона и Николая II, правнука своего. Знаешь, как нервно, как возбуждённо встретил Николай Павлович свержение очередного французского короля, который уже был карикатурою на монарха? Ему сообщили об этом на балу в Зимнем дворце, и он по-молодецки, но срывавшимся от волнения голосом, воскликнул: «Господа офицеры, в Париже революция, готовьтесь седлать коней!» А знаешь, почему так зловредны революционеры? Они – как жестокие прыщавые подростки, бездумно спешащие разрушить мир, хотя вполне могут быть в разрушительном раже своём рыхло-пузатыми, лысыми и небритыми, а порой мне кажется, что революционеры – не подростки даже, а ожесточённо злые, обиженные на взрослых дети, которые балуются со спичками. И не могу не заметить, что революционеры – всех возрастов, сословий – все они, как один, даже те, что образованны и умны, как, к примеру, и Герцен тот же, самый умный, глубокий, безвкусны в колокольно-революционном раже своём, понимаешь, безвкусны! Да, Юрочка, вдобавок ко всем кровавым дарам своим всякая революция с её лающими ораторами, обманными лозунгами, знамёнами – это апофеоз безвкусицы. Ох, прости, что я на эстетику отвлеклась, забыв о перепуганном Николае Павловиче, ох, трудно мне влезать в шкуру самодержца, просыпавшегося в холодном поту с нехорошими мыслями о революции, оценивавшего под нашёптывания придворных перестраховщиков угрозы того письма! Отпущу тебе, Юрочка, и вдумчивой участливости твоей комплимент: чувствую, ты растроганно вошёл в моё аховое, откровенно говоря, положение. Но что, Юрочка, коли мы не мнительные помазанники-самодержцы с тобой, чтобы во всяком чихе самовлюблённых краснобаев-ничтожеств смертные угрозы для империи находить… Французская властная чехарда, конечно, не могла не вызывать опасливого презрения: то реставрация, то республика, но сам подумай, что опасного для устоев абсолютистского русского государства, на взгляд разумных людей, в идейно худосочном и пустословно-пафосном письме Белинского содержалось? А на взгляд неразумных? Неужели венценосный Николай Павлович с присными своими не зря литературных прокламаций боялись и – «не пущали», эшафотами устрашали? Неужели в самом деле… Неужели именно из-за призывов бездарного и выспреннего того письма потом, ещё через полвека, в паршивом роковом феврале, безмозглые и, главное, бессовестные политиканы-предатели аккуратненько накануне победы Антанты надругались над отважно воевавшей империей, трон в грязь и кровь повалили? Но я опять отвлеклась… И кто такой был, скажи, пожалуйста, Юра, этот чахоточный Белинский, чтобы свысока отчитывать Гоголя, который неизмеримо выше любых социальных идеалов и просветительских претензий на благотворно-всеобщую, одну на всех, истину? Гоголь недосягаем, а этот придумывавший ранжиры для недоумков Виссарион, – брезгливую гримаску состроила, – Гоголя, как недоучку, как нерадивого школяра, песочил… А знаешь ли, как сам Гоголь в частном письме о критике своём отзывался? Дай бог память… «Апостол невежества, панегирист татарских нравов», каково? Я и Елизавете Ивановне, словеснице как-никак, доказывала с пеной у рта и, хочу надеяться, убедительно доказать сумела, что муру накатал пасквилянт Белинский, a priori – муру!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Германтов и унижение Палладио"
Книги похожие на "Германтов и унижение Палладио" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио"
Отзывы читателей о книге "Германтов и унижение Палладио", комментарии и мнения людей о произведении.