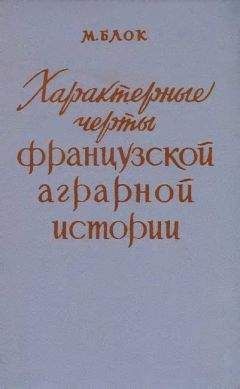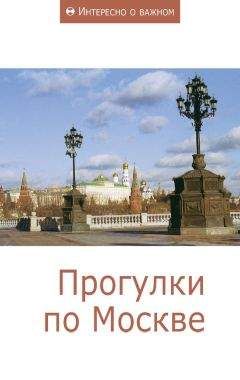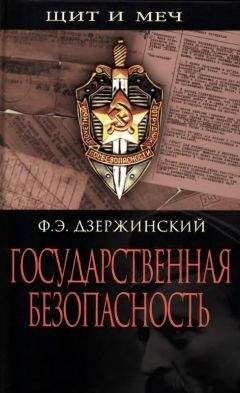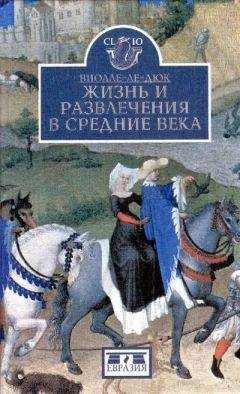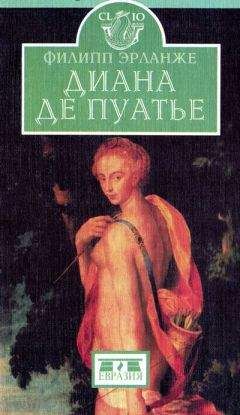Андрей Михайлов - От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
Описание и краткое содержание "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны статьи, написанные в разное время (начиная с 60-х годов), но посвященные в какой-то мере одной теме – основным моментам развития французской литературы эпохи Возрождения и Семнадцатого столетия (то есть особенностям и закономерностям протекания литературного процесса).
Здесь есть статьи обобщающего характера, статьи, посвященные творческому пути крупнейших представителей литературы этого времени (Вийон, Рабле, Ронсар, Агриппа д'Обинье, Корнель и др.), проблемам переходных эпох и некоторым частным вопросам, важным для характеристики движения литературы на протяжении более чем двух веков.
В этом отношении к творчеству Мариво близки лучшие произведения Шарля Дюкло (1704 – 1772). Упадок нравов, искатели легких наслаждений и их полудобровольные жертвы, не любовь, а грубая чувственность, царящие в обществе внешне благопристойном, но пораженном неизлечимой моральной болезнью, откровенно показаны в романе Дюкло «История госпожи де Люз» (1741). Героиня книги идет от падения к падению, она уступает домогательствам судьи Тюрана, подчиняясь ложно понятому чувству долга, не может ни в чем отказать исповеднику Ардуэну, завороженная его ламентациями, она пасует перед волокитой Марсияком, побежденная его наглым приступом. Условности света и условия жизни оказываются сильнее слабой женщины, ставшей жертвой трагических обстоятельств. Изображению, а по сути дела разоблачению светского распутства посвящен роман Дюкло «Исповедь графа де***» (1741; известен также под названием «Исповедь повесы эпохи Регентства»). Герой романа ведет рассеянный образ жизни, думая только о любовных утехах, и с протокольным беспристрастием повествует о своих связях с испанкой, итальянкой, англичанкой и т. д. Характеры его партнерш, их манеры и склонности описаны не без юмора, но страстность испанки, фригидность англичанки, беззаботность итальянки выглядят условными национальными черточками, и ни эти девицы, ни сам герой-рассказчик не обладают психологической глубиной. Есть у героя и наставница в любви – светская дама не первой молодости маркиза де Валькур, разворачивающая перед юношей целую философию любви и обольщения. Характерно, что Дюкло приводит своего героя после бесчисленных любовных интрижек без любви и наслаждений без страсти к большому чувству к г-же де Сельв, испытывающей к графу де*** не только влечение, но чувство духовной близости. Этот финал романа, несколько неожиданный и искусственный, является отрицанием светской гедонистической морали, которой до этого жил герой и которой была пронизана литература рококо. Хотя этот катехизис соблазнителя и повесы и завершается обращением героя, хотя гуманистическая мораль и противостоит в книге аморальности света, Дюкло в своем романе не без воодушевления и любования описывает те хитроумные уловки, ту беззастенчивую ложь и дерзкую смелость, выказываемые графом де***, идущим от одного любовного похождения к другому. Книга Дюкло построена во многом по внешней схеме плутовского романа: здесь одни эпизоды никак не связаны с другими, их последовательность диктуется лишь простым течением жизни: герой то в Париже, то попадает в Италию, то его забрасывает в Испанию и т. д. И везде он ищет (и находит) любовные интрижки. Писатель (быть может, не без сожаления) видит мир и общество погрязшими в пороках, которым он может противопоставить лишь не очень реальный, «голубой» образ г-жи де Сельв. Любование автора неистощимой находчивостью героя в его любовных авантюрах, его удачливостью и лихостью найдем мы и в знаменитых «Похождениях кавалера Фобласа» Луве де Кувре (1760 – 1797), тоже достаточно точно и подробно рисующих падение нравов в дворянском обществе XVIII столетия.
* * *Пьер-Антуан де Ла Плас (1707 – 1793), известный в свое время поэт и переводчик, посвятил Кребийону такую шутливую эпитафию:
Dans се tombeau gоt Crйbillon.
Qui? Le fameux tragique? Non!
Celui qui le mieux peignit l’вme
Du petit-maоtre et de la femme[146].
Сказано необычайно метко. Все произведения Кребийона, изображал ли он непосредственно своих современников или облекал их в условные восточные одежды, посвящены психологии и нравам светских щеголей (так называемых «петиметров») и их партнерш.
Начал Кребийон, как уже говорилось, новеллой «Сильф, или Сновидение госпожи де Р***, описанное ею в письме к госпоже де С***». Напечатал новеллу отдельной книжечкой в 1730 г. заштатный парижский издатель Л.-Д. Делатур. Эта новелла, развивающая очень популярную в литературе эпохи тему общения человека с бесплотными духами (сильфами, сильфидами, гномами и т. п.), принадлежит к первой «манере» Кребийона, куда можно отнести и два его «диалога», напечатанные значительно позднее, но написанные также в первой половине 30-х годов, – «Ночь и мгновение, или Утра Цитеры» и «Нечаянность у камина». Все эти книги пронизаны поверхностно веселым, гедонистическим отношением к жизни, трактовкой любви как увлекательной игры, остроумием, ироничностью, слегка затушеванными эротическими намеками. В них обращает на себя внимание мастерство диалога, блистательные речевые характеристики героев, точность в обрисовке психологии персонажей. Особенно героинь (госпожи де Р*** из «Сильфа», Сидализы и Селии из диалогов). Они кокетливы, капризны, внешне простодушны, но внутренне глубоко расчетливы и холодны. Они принимают ухаживания и отвечают взаимностью на любовь не потому, что в них пробуждается подлинное чувство, а потому, что так принято, потому что весь свет предается этой беззаботной и ни к чему не обязывающей любовной игре. Ими движут не страсти, а в лучшем случае любопытство и скука. Это подлинные женщины рококо, соединяющие в себе обольстительную юность излюбленных моделей Буше с опытностью искушенных светских львиц. Вильгельм Гаузенштейн дал прекрасную характеристику героинь рококо и тех приемов обольщения, к которым прибегали их не менее холодные и расчетливые партнеры: «Эпоха выработала форменную теорему обольщения; кульминационным пунктом ее является галантный довод о “счастливом миге”. Счастливый миг – какая гравюра той эпохи не носит этого заголовка! – был подходящий момент для обольстителя, еще более желанный, когда неприступная оказывалась уже искушенной в математике любви и умела утонченно рассчитать свое сопротивление. Опытная женщина – это был самый естественный половой тип, на девственницу смотрели как на скучную аномалию»[147].
Но в этих произведениях Кребийона уже намечалось, пусть эскизно и бегло, развенчание царившей в обществе «любви-влечения», поверхностной, холодной и показной, что станет темой зрелых книг писателя. Клитандр, герой диалога «Ночь и мгновение», обольщая Сидализу, развертывает перед ней с откровенным цинизмом свою философию сиюминутного наслаждения без настоящей любви и глубокой страсти: «Достаточно приглянуться друг другу, чтобы полюбить. Ну а если все это сразу же наскучит? Расстаются так же легко, как и влюбляются. А вдруг влечение вернется? Ну так снова друг в друга влюбляются, как будто испытывают взаимное влечение впервые. Потом снова расстаются и никогда не ссорятся. Вообще-то любовь тут ни при чем. Но разве любовь – это не простое желание, которое преувеличивают, разве это не минутный порыв чувств, который из тщеславия изображают как некую добродетель?»[148].
В первой половине 30-х годов Кребийон выпустил еще две книги, как бы написанные двумя разными людьми, столь различен их стиль и лежащая в их основе жизненная философия.
В романе «Уполовник, или Танзай и Неадарне» (1734) Кребийон воспользовался входившим в моду псевдоориентализмом и описал любовные неудачи Танзая, принца из заколдованного королевства Шешиана. Утратив свою мужскую силу как раз накануне первой брачной ночи с очаровательной Неадарне, злосчастный принц оказывается втянутым во всевозможные авантюры, где он всякий раз терпит позорное фиаско и выплывает наружу его роковой недостаток. Книга написана легко и остроумно. Помимо необузданной фантазии, выливающейся в причудливые феерии, в ней немало психологических наблюдений и пассажей, проникнутых мягким лиризмом, например, описание переживаний юной Неадарне, в душе которой, в борьбе между любовью и стыдливой скромностью, просыпается робкая и наивная чувственность. Есть в книге и довольно смелые для своей эпохи призывы покончить с преклонением перед сильными мира сего и порвать связывающие человека цепи: «Разбейте оковы, которыми вы опутаны, – восклицает один из героев, – они падут, лишь только вы перестанете покрывать их поцелуями... Свергнем эти суровые законы, продиктованные злобой и несправедливостью, и мы победим. На что только не способны люди, сражающиеся за своих богов и за свою свободу!»[149] Впрочем, эти смелые тирады произносит в романе персонаж откровенно комический, поэтому они по меньшей мере звучат двусмысленно.
Книга содержала немало рискованных описаний и прямых скабрезностей; кроме того под прозрачными «восточными» именами в ней были выведены влиятельные лица – кардинал Дюбуа, кардинал де Роган, герцогиня дю Мэн. Автор был упрятан в Венсенн, и лишь вмешательство принцессы де Конти вызволило его оттуда. Книга наделала шума. Мариво поместил ее критический разбор (не назвав ее прямо) в четвертой части своего «Удачливого крестьянина»[150]. Интересен отклик русских журналов, появившийся значительно позже, но несомненно повторяющий суждения современных французских газетчиков: «Нынешние французские романы разделяются на три класса, и всякий имеет особый вкус... К третьему классу подал пример Кребильонов сын. Сии романы невероятны, чрезвычайны, против благопристойности и нравоучения, хотя и увлекают они большую часть читателей и находят своих любителей. Штиль в них принужденной и шуточной. А лучшее и смешное состоит часто в чрезвычайнейшем и необыкновенном. Романы сего третьего класса не служат ни к хорошему вкусу, ни к исправлению нравов, а менее всего способны к наставлению разума»[151]. Однако Вольтеру книга поправилась[152], и он передавал приветы и поздравления ее автору[153].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
Книги похожие на "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Михайлов - От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
Отзывы читателей о книге "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II", комментарии и мнения людей о произведении.