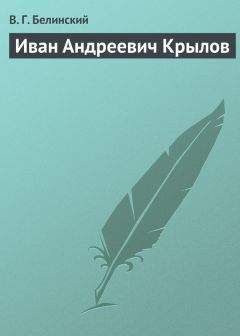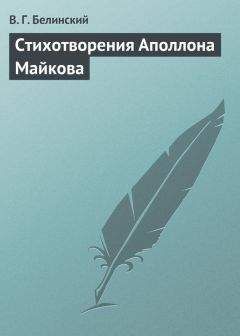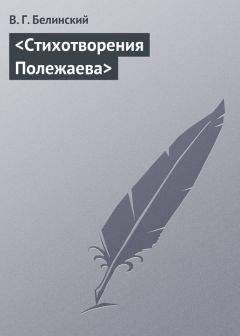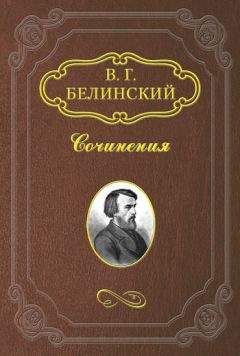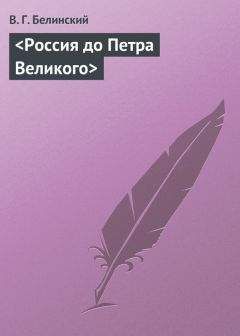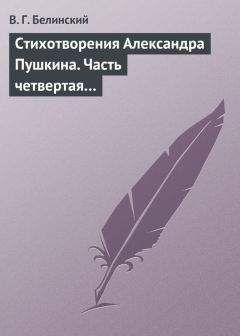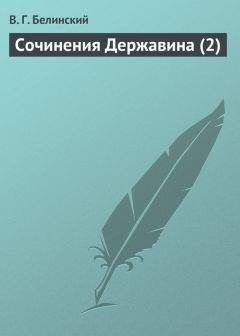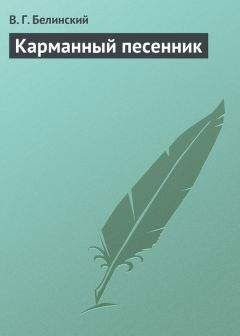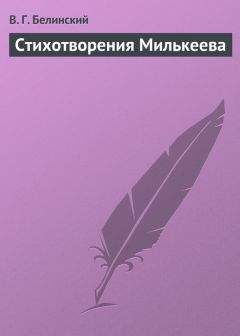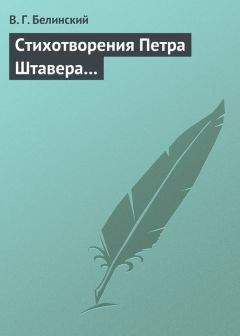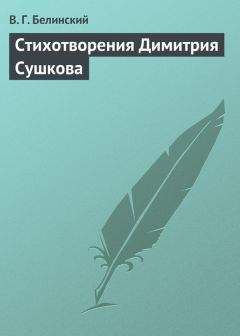Виссарион Белинский - <Статьи о народной поэзии>

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "<Статьи о народной поэзии>"
Описание и краткое содержание "<Статьи о народной поэзии>" читать бесплатно онлайн.
Цикл статей о народной поэзии примыкает к работе «Россия до Петра Великого», в которой, кратко обозревая весь исторический путь России, Белинский утверждал, что залог ее дальнейшего прогресса заключается в смене допетровской «народности» («чего-то неподвижного, раз навсегда установившегося, не идущего вперед») привнесенной Петром I «национальностью» («не только тем, что было и есть, но что будет или может быть»). Тем самым предопределено превосходство стихотворения Пушкина – «произведения национального» – над песней Кирши Данилова – «произведением народным».
(Здесь следует опять совершенно непонятное место, которое выписываем в подлиннике: «На седьмом веце Трояни върже Всеслав жребий о девицю себе любу. Тъй клюками подпръся о кони, и скочи к граду Кыеву, и дотчеся стружием злата стола киевскаго. Скочи от них (от кого?) лютым зверем в плъночи из Бела града, обесися сине мгле, утр же воззни стрикусы (?) отвори врата Новуграду, расшибе славу Ярославу, скочи влъком до Немиги с Дудуток». По всем вероятиям, темнота этого места происходит сколько от описок в рукописи, столько и оттого, что тут не описывается, а только намекается на обстоятельство слишком современное, а потому всём известное в эпоху певца «Слова»{96}. Всеслав, о котором идет речь, вероятно, был удалец из удальцов, и все это место есть поэтическая апофеоза, в духе того времени, его подвигов, отличавшихся удальством и быстротою. Клюки, которыми он подперся о кони, могут означать не костыли, необходимые для хромого, а название какого-нибудь прибора для верховой езды. Что же касается до «седьмого веку Трояни» – Троянов век и Троянова земля очень часто упоминаются в «Слове», и еще никто не объяснил их значения{97}. Хотя все последующее за выписанным нами в тексте местом также непонятно в историческом значении, однако понятно, за исключением одной фразы, по смыслу и полно необыкновенной поэзии):
На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые береги Немиги не травою засеяны: засеяны они костьми русских сынов. Всеслав-князь людей судил, князьям города раздавал, а сам по ночам волком рыскал от Киева до Курска и Тьмутаракани. Ему в Полоцке рано зазвонили заутреню у святой Софии; а он в Киеве звон слышал. Хотя и вещая душа была в его друзе (?) теле{98}, но и он часто от бед страдал. Про него-то вещий Бонн сложил сей разумный припев: ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божиа не минути! О, стонать тебе, земля русская, вспоминая прежние времена и прежних князей! Того старого Владимира нельзя было пригвоздить к горам киевским…
Ярославнин голос раздается рано поутру:
Полечу я по Дунаю зегзицею, омочу бобровый рукав в Каяле-реке, отру князю кровавые раны на жестоцем теле его!
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
О ветер, о ветер! зачем, господине, так сильно веешь? Зачем на своих легких крыльях мчишь ханские стрелы на воинов моей лады? Или мало для тебя гор, чтобы веять под облаками, лелеючи корабли на синем море? Зачем, господине, развеял ты мое веселие по ковыль-траве?
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
О Днепр пресловутый! ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лелеял на себе ладьи Святославовы до стану Кобякова: взлелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему по утрам слез моих на море.
Ярославна рано плачет в Путивле на городской стене, аркучи:
Светлое и пресветлое солнце! всем и красно и тепло ты: зачем, господине, простер горячий луч свой на воинов моей лады, в безводном поле жаждою луки им сопряг, печалию им колчаны затянул?
Прыснуло море в полуночи; идут смерчи мглами: князю Игорю бог путь кажет из земли половецкой на землю русскую, к златому престолу отчему. Погасла заря вечерняя: Игорь испит и не спит. Игорь мыслию поля мерит от великого Дону до малого Донца. Конь готов с полуночи: Овлур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Уже нет там князя Игоря. Застонала земля, зашумела трава, всколебалися вежи половецкие; а Игорь-князь горностаем бросился к тростнику и гоголем на воду; вскочил на борзого коня, и соскочил с него босым (?) волком, и побежал к лугу Донца, и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей на завтрак, обед и ужин. Когда Игорь соколом летит, тогда Влур волком бежит, отрясая с себя росу холодную; ибо истомили они своих борзых коней. И молвил Донец: «Княже Игорю, не мало для тебя величия, а Кончаку нелюбия, а русской земле веселия!» И молвил Игорь: «О Донче! не мало тебе величия, что ты лелеял князя на волнах, постилал ему зелену траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми мглами под сению зеленого дерева, стерег меня и гоголем на воде, и чайками на струях, и чернядями{99} на ветрах. Не такова, примолвил он, река Стугна: дурна струя ее, пожирает чужие ручьи и разбивает струги о берег. Юноше князю Ростиславу затворил Днепр берега темные. Плачется мати Ростислава по юноше князе Ростиславе. Уныли цветы от жалости, и древо с тугою к земле преклонило».
По следу Игореву ездит Гзак с Кончаком. Тогда враны не каркали, галицы помолкли, сороки не стрекотали; ползая по сучьям, только дятлы тектом путь к реке кажут, соловьи веселыми песнями свет поведают. Молвит Гзак Кончаку: «Когда сокол к гнезду летит, то соколенка[20] расстреляем своими стрелами золочеными». Молвит Кончак к Гзаку: «Когда сокол к гнезду летит, то опутаем соколенка красною девицею». И сказал Гзак Кончаку: «Если опутаем его красною девицею, то не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы, и почнут нас птицы бить в поле половецком».
Сказал Боян: тяжко голове без плеч, худо телу без головы, а русской земле без Игоря. Солнце светится на небеси, а Игорь-князь в русской земле. Девицы поют на Дунае. Вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы, поют песнь старым князьям, а потом молодым. Пета слава Игорю Святославичу, буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствуют князи и дружина, поборающие за христиан на неверные полчища! Князьям слава, дружине аминь!{100}
* * *Мы хотели было ограничиться только изложением содержания «Слова о полку Игореве», и, чтоб некоторым образом заставить его говорить за себя, хотели только местами выписывать самые характеристические выражения и самые оригинальные образы; но против нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вместо голого содержания, представили читателям полный по возможности перевод. Думаем, что читатели не посетуют на нас за это: «Слово о полку Игореве» играет в нашей литературе роль какого-то невидимки; публика слышит о нем самые противоречащие мнения, которых поверить ей нет возможности. При– чина очевидна: не у всякого станет терпения и охоты прочесть искаженный подлинник, писанный языком столь устаревшим, что он по своей устарелости требует гораздо больше труда, нежели сколько в состоянии доставить наслаждения, исполненный непонятных слов и оборотов, сомнительных, темных, а часто и бессмысленных мест. Переводы же не дают о нем верного понятия, потому что переводчики хотели переводить его все – от слова до слова, не признавая в нем непереводимых мест. Некоторые из них просто пересочиняли его и свои собственные, весьма неинтересные изделия{101} выдавали за простодушную и поэтическую повесть старых времен. Мы же, во-первых, исключили из нашего перевода все сомнительное и темное в тексте, заменив такие места собственными замечаниями, необходимыми для связи разорванных частей поэмы; а в переводе старались удержать колорит и тон подлинника, а для этого или просто выписывали текст, подновляя только грамматические формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристические слова и обороты подлинника. И потому наш перевод может дать довольно близкое понятие о «Слове» и вместе с тем даст читателю возможность поверить наше мнение об этом примечательном произведении народной поэзии древней Руси.
Мы не считаем за нужное доказывать, что «Слово о полку Игореве» отличается неподдельными поэтическими красотами, оно исполнено наивных и благородных образов: мы для того{102} и включили его в нашу статью, чтоб не толковать о том, что дважды два – четыре. Читайте и судите сами; если не понравится, нам нечего делать с этим: кому само дело не говорит за себя тем уж не помогут толкования. Между читателем и критиком необходимо должно существовать нечто вроде симпатии, нечто вроде заранее заключенного условия о том, что хорошо и что худо; иначе они не будут понимать друг друга. Дело критика не доказывать, поэтическое или непоэтическое такое-то произведение: подобный вопрос решается непосредственным чувством читателя, а не доказательствами критики; дело критика – показать не поэтическое достоинство, а степень поэтического достоинства в данном произведении, его идею, полноту, оконченность. На этот счет мы не обинуясь скажем, что «Слово о полку Игореве» отличается неподдельными красотами выражения; что, со стороны выражения, это – дикий полевой цветок, благоухающий, свежий и яркий. Но в поэтических произведениях выражение еще не составляет всего: все заключается в идее, и выражение по той мере возвышает достоинство произведения, по какой в нем высказывается идея. В «Слове о полку Игореве» нет никакой глубокой идеи. Это больше ничего, как простое и наивное повествование о том, как князь Игорь с удалым братом Всеволодом и с своей дружиною пошел на половцев, сперва разбил их, а потом сам был разбит наголову, попался в плен, из которого, наконец, удалось ему ускользнуть. Беспрестанные обращения к междоусобиям князей, или намеки на них, также составляют содержание и, сверх того, исторический фон поэмы. Источником исторического произведения поэзии может быть только история народа, и произведение в той только степени может отличаться глубокою идеею, в какой полна «общим содержанием» жизнь народа. Времена междоусобий с первого взгляда могут показаться самым поэтическим периодом в русской истории; но если глубже и пристальнее заглянете в сущность и значение этого времени, то увидите, что в нем не было никаких элементов, которые могли бы дать поэзии содержание; там были только элементы для поэзии чувства и выражения, по общему закону – где жизнь, там и поэзия. Есть резкое различие между поэзиею души человеческой и поэзиею общества человеческого, поэзиею историческою: первая существует и у диких племен; вторая только у народов, играющих великую роль на арене всемирно-исторического развития человечества. И потому «Слово о полку Игореве» не только нейдет ни в какое сравнение с «Илиадою», но даже и с поэмами средних веков вроде «Артура и рыцарей Круглого стола». Для пояснения этой мысли{103} сравните жизнь Западной Европы средних времен с жизнию Руси в XII веке: какая разница! В феодализме заключалась идея; удельная система, по-видимому, была случайностию, порождением естественных, патриархальных понятий о праве наследства. Феодализм вышел из системы завоевания: целый народ двигался на завоевание другого народа; покорив его, основывался, делался оседлым на завоеванной земле. Так как у завоевателя личную силу давало не рождение, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска брал себе часть завоеванной земли, а все остальное делил на участки между своими сподвижниками. Отсюда произошли бесчисленные следствия, без сознания которых не может быть объяснена даже современная нам история Европы. Сподвижники главного вождя, получив свои участки, естественно, смотрели на него не как на своего властелина, а как на старшего товарища по оружию, во всем прочем равного им, и почитали себя вправе по собственному произволу смотреть на него как на друга или как на врага и, сообразуясь с этим, становиться к нему в приязненное или неприязненное отношение. Простые воины, не получившие участков, поступали на жалованье к своим патронам, а не властелинам, – селились на их земле и платили им за то военного службою: образовался класс вассалов – свободных воинов, не рабов. Завоеванный же народ, по праву завоевания, делался собственностию, рабом завоевателя, кроме, разумеется, людей высшего сословия, которым политика завоевателей предоставляла равные права, на условии покорности. Из этого положения возникала борьба, результатом которой было разумное развитие. Завоеванный народ, питая ненависть к завоевателю, образовывал собою самостоятельный элемент государственной жизни, – и борьба не переставала ни на минуту. Когда же языки обоих народов сливались в один язык, а оба народа в один народ, тогда элемент завоевателя образовался в аристократию, элемент завоеванного – в низший класс общества, и из борьбы возникали, с одной стороны – натиск утвержденных временем исключительных прав, с другой – упругий отпор, или оппозиция. Отличительное свойство идеи таково, что она не стоит на одном месте, не является ни на минуту чем-то особенным, определившимся, оторванным от прошедшего и будущего, но беспрестанно движется, из старого рождая новое. Право аристократии сперва было не чем иным, как правом сословия, справедливо гордившимся высокостию своих чувств, благородным образом мыслей, и не без основания почитавшим себя вправе с презрением смотреть на низкую чернь, как на предназначенную от природы для низких нужд жизни. Возникновение городов и среднего сословия было первым шагом к изменению этих отношений. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностию, а естественным результатом положения дел, и необходимая для сформирования государства в единое политическое тело. Монархизм нашел себе естественного союзника в городах, города – в монархизме, и оба они стали грудью против рыцарства, до тех пор, пока рыцарство, переродившееся в аристократию, или вельможество, снова не явилось естественным союзником монархизма, и только в другом виде, но все прежним врагом и среднего сословия и народа.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "<Статьи о народной поэзии>"
Книги похожие на "<Статьи о народной поэзии>" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виссарион Белинский - <Статьи о народной поэзии>"
Отзывы читателей о книге "<Статьи о народной поэзии>", комментарии и мнения людей о произведении.