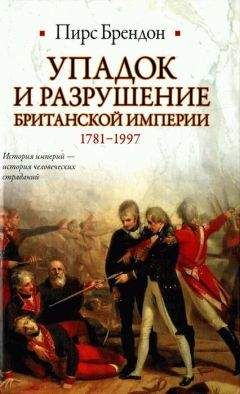Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Надо всеми мерами искоренять вредные польско-католические книжонки: это хуже опиума и белены. Надо, чтобы народ [читал то], что не восстановляет явно против православия и русских. Католическая книжная пропаганда опасна; она держит народ в фанатизме и ослеплении. Прочтите-ка в переводимом… рожанчике (сборник песнопений, по-литовски Rožančius. – М.Д.), стр. 29, 30 и 31, 346. Надо из рожанчика выпустить всю кантычку о Казимире, патроне Польши и Литвы, особенно конец скверен, где говорится об утеснениях, о истреблении схизматиков. Это чисто фанатизующие воззвания, не в духе христианском. Стр. 29–31 об отпущении грехов – также нелепость, суеверие. …Нам непростительно поддерживать нелепости, хотя бы и папские[777].
К услугам комиссии Столыпина имелся эксперт, поднаторевший в выискивании «опиума и белены» в литовском молитвословии и гимнографии. Им был Антоний Петкевич (Антанас Пяткявичюс), литовец по происхождению, в прошлом католический священник. Перейдя в православие с сохранением сана, Петкевич еще в 1850-х привлекался Виленским цензурным комитетом для рассмотрения литовских изданий[778] и с тех пор накопил немало «компромата» на тельшевского епископа М. Волончевского (Валанчюса), который готовил сам или курировал все богослужебные, церковно-исторические и прочие религиозные книги на литовском. Петкевич снабдил комиссию подборкой наиболее крамольных, по его разумению, фрагментов в переводе на русский. Прежде всего это восхваления Святого Казимира[779] за чудесное избавление им «литовской земли» в годину, когда «тысячами из народа закованных пленников в рабство погнал швед и москаль». Петкевича возмущало как описание в этом песнопении зверств и кощунств «москалей», так и тема общности политической судьбы Польши и Великого княжества Литовского: «Святый Казимир с неба прибыл и в воздухе воинами был видим, / За ним следовавшие москаля покорили, плачущий народ из неволи освободили. / Пресвятая Дева, шведов устрашая, от Ченстохова в бегство их обратила. / Посрамленные оставили свободным наше государство»[780]. В текстах, вышедших из-под пера самого Волончевского, комиссия при помощи Петкевича искала политические аллюзии в тонкостях семантики. Так, в книге «Жемайтская епархия» («Zemaičių vyskupystė») – одном из первых опытов литовского этноцентричного нарратива[781] – епископ изображал закрытие католических монастырей после восстания 1831 года как варварское истребление, что подчеркивалось выбором особенно сильного глагола. В эту же подборку были включены моления о наказании врагов католической церкви, включая канонически установленную молитву папы Пия IX об ограждении церкви от еретиков[782].
Трактовка Петкевича попадала на уже хорошо удобренную почву: к 1866 году догма о «религиозном фанатизме» литовцев имела широкое хождение среди виленских администраторов. Литовцы – в подавляющем большинстве крестьянское население – представляли собой более удобный, чем поляки, объект для применения общеевропейского стереотипа католицизма как веры «темной», «тупой» и «суеверной» толпы. Если католицизм поляков в русском восприятии оставался, хотя бы косвенно, связан с идеей аристократической утонченности, то на литовцев русификаторы чувствовали себя вправе смотреть с безусловно элитарной позиции, подобно тому как германские националисты-протестанты взирали на компатриотов – плебеев католического исповедания.
В портрете литовца-«фанатика», который усиленно создавали русификаторы, католицизм сближался с язычеством, формальным основанием для чего служили лишь отдельные наблюдения над литовскими обычаями и празднествами. Само применение этнографических аргументов акцентировало культурную, колониальную дистанцию между обрусителями и подлежащими обрусению. У виленских администраторов было в ходу насмешливо-презрительное выражение «Святая Жмудь» (эпитет контрастировал с обиходным и звучащим несколько комично этнонимом/топонимом). Статью под таким названием опубликовал в 1865 году в местном пропагандистском журнале «Вестник Западной России» Н.И. Соколов, выпускник Петербургской духовной академии, этнограф-любитель, участвовавший в деятельности Виленского учебного округа по разысканию «русских древностей» в Северо-Западном крае[783]. Статья должна была объяснить причины столь беспокоивших администрацию после 1863 года почтения и покорности литовской католической паствы своему единоплеменному клиру. Выводя каждый рассматриваемый элемент католической религиозности напрямую из предполагаемого языческого субстрата, автор демонстрировал позитивистски-механистическое понятие о соотношении языческих и христианских верований. Язычество характеризовалось как «внутренняя» суть религии литовцев, а христианская обрядность – как не более чем «внешняя» форма, ложный лоск. Например, о распространенном (впрочем, отнюдь не только у литовцев) обычае установки крестов на полях, у дорог и проч. в память о каких-либо событиях Соколов писал, что он «возбужда[ет] какую-то искусственную религиозность, которая преследует жмудина во всех углах и однообразием впечатлений подавляет наконец мысль его. Нет спора, что это способствует образованию как бы некоторой нравственной атмосферы, но нет спора и в том, что эта атмосфера – туманная, удушливая. …Папизм и в этом обычае, как в других, пленяет мысль… множеством внешних впечатлений, – зато и здесь только внешним слоем латинское христианство ложится над внутренним язычеством народа».
Действительным антиподом «папизма» было, по этой логике, не язычество, а сознательная, непоказная христианская вера. Для закрепления данной оппозиции Соколов сопоставлял католицизм литовцев с привычным для бюрократического сознания антагонистом синодального православия: «В настоящее время жмудин – христианин, но по своим понятиям о сущности и значении христианства – язычник. …Существенная, внутренняя сторона христианской религии еще не затронула и не дала движения народной мысли. Но жмудин – последователь обряда, старого обряда, старообрядец»[784]. Аналогия между католицизмом «Святой Жмуди» и русским расколом имела у Соколова отвлеченный характер. Другие местные чиновники шли дальше и характеризовали особенности литовской набожности через сравнение с конкретными группами старообрядцев, проживавших по соседству в Ковенской губернии. Так, инспектор Кейданской гимназии Д.Ф. Каширин, занимавшийся в 1864 году открытием народных школ в литовских селениях, фактически отказывал литовцам в той доле сознательной религиозности, которую готов был признать в старообрядцах: «…фанатизм литовского крестьянина не есть фанатизм наших раскольников: последний основан на убеждении, хотя и ложном, а первый на одном терроризме (без всякого личного убеждения) ксендзов»[785]. В менее неприязненном тоне, но с тем же ударением на обезличенность религиозного чувства описывал молящихся литовцев анонимный корреспондент газеты «День» (вполне возможно, один из чиновников Виленского учебного округа):
В праздники костелы бывают постоянно наполнены; опоздавшие бесцеремонно проталкиваются через толпу, топча по ногам близ стоящих, но зато с молитвой на губах и с каким-то сосредоточенным взглядом, беспредметно устремленным вперед. Перед богослужением и после, молитвы поются целым народом, попеременно, то мужчинами, то женщинами, с энергией и довольно согласно… Во время проповеди, обыкновенно на жмудском языке, при известных воззваниях ксендза, раздаются, как бы по команде, единодушные завывания, и потом опять все умолкает. Вообще заметно, что народ превосходно дисциплинирован духовенством, любит его и привязан к нему искренне[786].
«Дисциплинирующий», отдающий «команды» и даже «терроризирующий» ксендз в такого рода описаниях и зарисовках был реминисценцией трафаретной фигуры языческого жреца или главы раскольничьей секты. Иными словами, даже если тезис о языческой природе религиозности литовцев не артикулировался, он подразумевался риторикой или соответствующей контекстуализацией.
Российские чиновники и публицисты не были оригинальны в этой «паганизации» католического простонародья: в современных европейских государствах одним из ходячих упреков по адресу католической церкви было то, что она, как считалось, потакает суевериям и низменным инстинктам плебса[787]. Феномен поглощения народным католицизмом некоторых анимистических верований (анализ которого цитированный выше Соколов подменял метафорой «внешнего слоя», утверждающей неизменность и неподвижность дохристианских «остатков») отнюдь не ограничивался «Святой Жмудью» и не был непременным атрибутом замкнутой, безэлитной этнической группы. Другое дело, что литовский случай явился в известном смысле моделью для виленских администраторов, отрабатывавших приемы дискредитации католицизма.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.