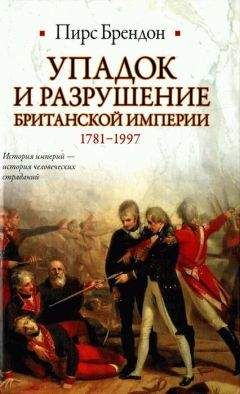Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Католики в Сельцах оказались в положении, какое затем много раз повторялось в различных католических приходах. Не признавая себя православными и избегая посещения церкви, они не имели доступа и в костел, настоятель которого, опасаясь взыскания от властей, отказывал этим прихожанам в исполнении треб. В результате «католики, считаемые по спискам присоединенными к православию, в настоящем посту еще не говели, кроме того, крещение новорожденных младенцев, предсмертное покаяние и прочие таинства между ними не исполняются»[726]. Как мы увидим ниже, некрещеные дети, невенчанные пары и непричащенные умирающие часто возникали в донесениях служащих, видевших в массовых обращениях угрозу подрыва народной религиозности. Но самой по себе такой картины не было достаточно для того, чтобы тронуть и умилостивить высших светских и церковных бюрократов. Законодательство, обеспечивающее православию статус «господствующего вероисповедания», делало переход в эту конфессию необратимым; отказ от православия рассматривался исключительно как «совращение». Выходом для «упорствующих» могло бы стать признание их обращения несостоявшимся – уступка, которая делалась очень редко[727].
Тем не менее в Сельцах такую уступку сделали с санкции Муравьева и митрополита Иосифа. Ее основанием было выставлено то, что священник, получив от станового пристава письменное прошение католиков, «за их неграмотностию подписанное чужою рукою», «совершил над ними в тот же день чин присоединения к Православной церкви, без взятия от них требующейся законом подписки и без приобщения таинству Евхаристии». В своем отношении к епископу Брестскому Игнатию митрополит признавал, что «едва ли сказанные люди могут считаться твердо присоединившимися к Православной церкви, без изъявления ими вновь согласия на присоединение и без приобщения Св. Таин по чину Православной церкви». В духе укреплявшейся в эпоху Великих реформ концепции миссионерства, осуждавшей и принуждение, и материальное поощрение к обращению, Иосиф требовал от священников считаться с собственной волей индивида: надлежало «быть крайне осмотрительными в деле присоединения иноверцев» и «не совершать такового без точного удостоверения о их твердом убеждении и искренней решимости принадлежать к Православной церкви»[728].
Этот случай показывает, что документальному удостоверению смены конфессиональной принадлежности при Муравьеве придавалось немалое значение. На том основании, что католики в Сельцах не подтвердили согласие на смену веры подписками и не причастились, им разрешили по-прежнему исповедовать католицизм. Отсюда становится понятнее недоверие Муравьева к обращениям католиков в православие на уровне отдельных приходов. Процедура «перерегистрации» спорной паствы («возвращение», «воссоединение», а не собственно обращение) больше соответствовала его бюрократическому легализму, чувству имперского порядка. Отвечала она и столь важной для деполонизаторского курса идеологеме восстановления исторической истины, победы «русской правды» над «польской кривдой». «Узнавание» в католиках православных разыгрывалось по тому общему сценарию прозрения, который служил обоснованию русского господства в Западном крае. Однако предпочтение «воссоединений» приходским обращениям обуславливалось и тем, как Муравьев оценивал сравнительную способность католической и православной церквей в данном регионе к прозелитизму и пастырской деятельности.
Цитированный выше Черевин оставил на этот счет чрезвычайно любопытное свидетельство. Он писал, что однажды Муравьев поручил ему спросить у прелата Антония Немекши, одного из немногих католических священников, активно сотрудничавших с виленской администрацией, считает ли он (Немекша. – М.Д.) возможным при настоящем придавленном состоянии латинского духовенства явление вида раскола отторжением католической церкви Запада (т. е. Западного края. – М.Д.) от Папы Римского. Я полагаю, что мысль Михаила Николаевича была уничтожить, предварительно обращения в православие католиков, влияние латинского духовенства, а может статься, полагал он при возможности подобного раскола начать дело обращения над самим латинским духовенством.
Немекша отвечал, что для такой операции нужна исключительно авторитетная личность из рядов католических клириков – т. е. человек, которого не скомпрометирует близость к светской власти[729]. В устах Немекши это предостережение звучало тем более убедительно, что сам он вследствие тесных связей с администрацией приобрел среди единоверцев безнадежную репутацию ренегата[730].
Сведения Черевина подтверждаются анонимной запиской, поданной Муравьеву в январе – марте 1865 года (более точной датировке документ не поддается) и сохранившейся в фонде III Отделения в подборке других адресованных генерал-губернатору писем и меморандумов. Она заслуживает пространного цитирования:
В сентябре прошлого года Д. Ст. Сов. С. имел честь представить Вашему Высокопревосходительству записку о политико-экономическом положении Витебской губернии, где между прочего коснулся кратко суждением о возможности и пользе прекращения отношений католического духовенства к Риму.
Мысль об [об]особлении Католической Церкви в России – не новая: еще в 1818 г. знаменитый митрополит Богуш-Сестренцевич представлял покойному Императору Александру Павловичу проект подобного рода, но, к сожалению, влияние Чарторийского остановило дальнейший ход.
…Теперь, пользуясь охлаждением политических отношений к Папе вследствие выказанного им сочувствия к польскому мятежу, представляется самый благоприятный случай осуществить это важное для государственного блага соображение.
Нет никакого сомнения, что высшее католическое духовенство в России обрадуется случаю сбросить иго Рима и, став самостоятельным, воспользоваться всеми вызываемыми прогрессом полезными реформами; миряне, по настоящему упадку авторитета ксендзов и в силу военного положения страны, не окажут сопротивления; Италия обрадуется ослаблению Папского Престола, а прочие державы не станут враждовать за церковные формальности.
Католический Синод мог бы учредиться в С.-Петербурге под наблюдением благонадежных, преданных Государю Императору сановников, и тогда он, в делах веры действуя независимо от Рима, мог бы разрешать ксендзам вступать в брак и тем, парализировав их фанатическое настроение, положить прочное основание к слитию национальностей и к укреплению условий государственного состава России.
…В сих видах собрание сведений о проекте Богуша-Сестренцевича и учреждение секретной Комиссии из преданных Правительству лиц для осуществления сего проекта могли бы короновать патриотические подвиги Вашего Высокопревосходительства, совершенные на поприще благоустройства Западного края и Царства Польского[731].
Хотя атрибуция текста, при имеющихся у меня данных, затруднительна, можно с большой долей уверенности идентифицировать упоминаемого в первой строке действительного статского советника С. как уже знакомого нам А.П. Стороженко. Напомню, что в сентябре 1864 года Стороженко совершал поездку по восточной части генерал-губернаторства, в частности, для сбора информации о католическом духовенстве и монастырях. Среди его писем, отсылавшихся с мест Муравьеву, мне не удалось обнаружить обзорной записки по Витебской губернии, но о хорошем знакомстве Стороженко с положением дел в ней свидетельствует его отчет, представленный П.А. Валуеву после одной из предыдущих поездок в Витебск и Могилев, в марте 1864 года[732]. Спустя год после отставки Муравьева Стороженко, сохранивший позицию влиятельного генерал-губернаторского советника и при Кауфмане, был назначен председателем вновь учрежденной Ревизионной комиссии по делам римско-католического духовенства.
Мысль об учреждении независимой от папы римского российской католической церкви имела после 1863 года хождение в обществе и бюрократии. Одно время она стояла в повестке дня руководимого Н.А. Милютиным Учредительного комитета Царства Польского. Такие его деятели, как В.А. Черкасский, находили образец регулируемого государством католицизма в наполеоновском законодательстве о галликанской церкви[733]. В конце 1860-х годов, как уже отмечалось выше, А.С. Муханов пытался воспользоваться для активизации проекта прошениями нескольких молодых, антипапистски настроенных священников о дозволении им вступить в брак, полагаясь, как и анонимный автор в 1865 году, на стремление католических клириков к «полному переустройству их быта в смысле демократизации и современного прогресса»[734].
И все же записка, поданная Муравьеву, выдвигала на первый план не Царство Польское, а Западный край. Своего рода эмблемой задуманного преобразования католической церкви становилось имя митрополита Станислава Сестренцевича-Богуша, одного из самых убежденных противников ультрамонтанства за всю историю католицизма в Российской империи[735]. Новый интерес к этой фигуре был привлечен именно в те годы публикацией (целиком на французском языке, а в выдержках – и на русском) двухтомного труда Д.А. Толстого «Римский католицизм в России»[736]. В 1864 году Толстой, которого ожидало через год назначение обер-прокурором Синода, побывал в Вильне и поделился с Муравьевым и его чиновниками сведениями о прошлых опытах государственного контроля над католическими монастырями и почитанием святынь[737]. Само это обращение к истории было в данном случае для виленской бюрократии бегством от действительности. Сестренцевич принадлежал к другой эпохе, когда духовный авторитет Святого престола казался многим католикам, не говоря уж о некатоликах, безнадежно подорванным, а вера в возможности благотворного воздействия просвещенных монархий на религиозную жизнь еще оставалась прочной. Ставленник (и в фигуральном, и в буквальном смысле) Екатерины II в большей мере, чем папы Пия VI, Сестренцевич десятилетия спустя после смерти занял в воображении некоторых бюрократов и православных иерархов место рядом cо своим младшим современником Иосифом Семашко, инициатором тех реформ в униатской церкви, которые привели к «воссоединению» 1839 года[738]. Однако к 1863-му, когда Муравьев прибыл генерал-губернаторствовать в Вильну, Семашко давно утратил прежнюю энергию и рвение к конфессиональным экспериментам и сторонился разговоров об оправославлении местных католиков.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.