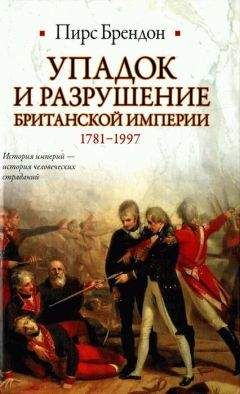Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Наглядно выражавшаяся в составе паломников и религиозных ассоциаций, феминизация католической религиозности явилась одним из неотъемлемых, конституирующих элементов религиозного возрождения XIX века. Она развивалась параллельно обострению потребности в мистических впечатлениях и доступных чувственному восприятию чудесах. В этой сфере духовенство не всегда удерживало за собой инициативу, будучи вынуждено считаться как с энтузиазмом паствы, так и с бытовавшими в ней верованиями магического и анимистического свойства[626]. Главным проводником в мир чудесного явился культ Девы Марии, еще более превознесенный принятием в 1854 году догмата о Непорочном Зачатии и соответствующим обновлением литургии и гимнографии. На 1850–1870-е годы приходятся наиболее прославившиеся явления Девы Марии в католической Европе. Примечательно, что бюрократии в разных государствах с почти одинаковым вольтерьянским скепсисом встречали известия о явлениях и препятствовали их каноническому признанию. Самое знаменитое из них, видение Бернадетты Субиру в Лурде во французских Пиренеях в 1858 году, и возникшее вскоре после этого паломничество к чудотворной святыне стали мобилизующим символом для французского католического сообщества. Как показала в недавнем исследовании Р. Хэррис, снятию бюрократических запретов и дальнейшей «институционализации» лурдского чуда способствовали воззрение французской политической и клерикальной элиты на жителей этой удаленной и бедной провинции как на набожных католиков, хранителей сердечной, «народной» веры, и представление самих жителей о благоволении к ним императорской четы, в особенности ревностной католички императрицы Евгении[627].
Лурдский культ вдохновлял визионерок в других странах. Он также явился фактором, повлиявшим на отношение властей к аналогичным манифестациям католической религиозности в Германской империи. Явление Пресвятой Девы трем девочкам в селении Марпинген на западе Пруссии, вблизи границы с Францией, в 1876 году повлекло за собой расквартирование там воинского отряда, арест более двух тысяч человек, судебный процесс и парламентские слушания в Берлине. Исследование Д. Блэкборна, богатое тонкими интерпретациями культурной механики этих событий, вскрывает в подоплеке неадекватной реакции властей ассоциацию католического почитания Девы Марии и вообще народного католицизма с французской угрозой (и не с нею одной)[628]. Применение государством насилия против женского по преимуществу движения не только не увенчалось успехом, но и привело к обратному эффекту: преследования и наказания окончательно убедили скептиков, еще остававшихся среди местных жителей, в подлинности чуда[629]. Как и в других государствах, не в последнюю очередь и в Российской империи, психология народного католицизма готовила его адептов и адепток к страданиям за веру[630].
Враждебность секулярных бюрократий разных стран к зрелищным и массовым формам католического культа вызывалась, помимо опасений за общественный порядок и внешнюю безопасность государства, специфическими предубеждениями против католицизма как такового. Пример Пруссии показателен и в этом отношении. К 1870-м годам в прусских протестантских кругах выработался устойчивый дискурс, дискредитирующий католицизм посредством уничижительных, дегуманизирующих образов и метафор. Многие из этих последних имели близкие аналоги в восприятии католицизма российскими бюрократами. Прусские либералы-националисты, а в 1870-х годах и бюрократы вновь созданного Рейха в чем-то пошли дальше, чем Вольтер. Если вольтерьянские нападки и насмешки над католической церковью подразумевали неизбежность победы Просвещения и разума над «гадиной», то во второй половине XIX века либеральные и националистические критики католицизма нередко впадали в панический тон. Согласно их трактовке, католицизм безвозвратно исказил человеческую природу своих последователей, усыпил их разум, напитал ненавистью к современности. В новейших тенденциях развития католицизма усматривались два главных фактора роста нетерпимости и деградации сознательной, разумной веры: усиление иерархического устройства церкви, возвышение непререкаемого папского авторитета, с одной стороны, и потакание духовенства примитивным народным верованиям – с другой[631]. Клише «фанатизма» наполнялось новым смыслом: оно обозначало не просто суеверие, но антипод технического прогресса, материального благосостояния, морального совершенствования, науки, позитивного знания. «Kultur, которую отстаивали либералы в ходе Kulturkampf, – отмечает Д. Блэкборн, – была материалистической, технологической и научной: культура железных дорог, сельскохозяйственных опытных станций и славного нового мира Прогресса»[632].
Символично, что самый термин «Kulturkampf» (буквальное значение – «борьба цивилизаций») пустил в оборот медик, патолог и леволиберальный политик Р. Вирхов. В фигуральном прочтении «Kulturkampf» связывался с идеей оздоровления тела нации, очищения его от зараженных болезнью клеток. То, что критикам католицизма виделось эксцессами религиозности, часто описывалось в терминах медицинских или биологических отклонений от нормы. Видения вроде имевшего место в Марпингене, горячая вера в чудотворность религиозных реликвий, коллективное им поклонение – все это сравнивалось с теми или иными видами заболеваний, физических или душевных. Для объяснения массовости и единообразия религиозных практик католиков использовались понятия психической эпидемии и групповой истерии, опиравшиеся на новомодные медицинские штудии, в частности Р. Крафта-Эбинга, которые сводили феномен женской религиозной экзальтации к подавленной или нарушенной сексуальности. Феминизация современного католицизма легко вписывалась в эту упрощенную схему; в полемическом арсенале германских католикофобов имелся большой запас скабрезных историй о рабской, наложнической преданности католических прихожанок своему духовенству, однотипных с тем навязчивым нарративом о полячках и ксендзах, который сложился в России[633].
Позитивистские и органицистские метафоры, прилагавшиеся к католицизму, заключали в себе социокультурный подтекст. Места видений и чтимых святынь, где католики регулярно собирались в большом количестве, часто именовались «болотом», заждавшимся радикального дренажа[634]. В европейской беллетристике типичным примером дискредитации католической набожности при помощи картины грязной, смрадной, обезумевшей толпы – по-насекомьи копошащейся груды плоти – является роман Э. Золя «Лурд» (1893), с его натуралистичными зарисовками больных, жаждущих исцеления в источнике у знаменитого грота[635]. Но задолго до выхода в свет этого антиклерикального опуса критики лурдского и подобных ему культов в соседней Германии педалировали тему «болота» для уничтожающей характеристики гражданских качеств католиков из простонародья. Считалось, что католическое население уступает протестантскому в физическом здоровье, умственном развитии, нравственности, трудолюбии, гигиене[636]. «Фанатическая» религиозность, таким образом, выступала индикатором глубокой социальной патологии, знаком погружения соответствующей части населения в трясину стадных инстинктов. Католицизм представал верой экзальтированных, презревших материнский долг женщин, дряхлых стариков, недоразвитых плебеев, т. е., в конечном счете, по сути своей неполноценных и неблагонадежных подданных. Короче говоря, это была невитальная, немужественная вера, противопоставляемая маскулинным ценностям истинной гражданственности: ответственности, благоразумию, хладнокровию[637].
По проницательному замечанию Д. Блэкборна, протестантские либеральные и националистические политики ополчались против католицизма с теми страстностью и нетерпимостью, в которых они же обвиняли католиков. Потеря чувства меры, а иногда и чувства реального в таких обвинениях, нападках и гонениях отразила неуверенность либералов в своей способности реформировать социальные отношения: «Точно так же, как действия прусского государства выказывали столько же силу, сколько слабость, отчаянная шумиха либеральной риторики означала бессилие (потому-то, возможно, либералы беспрестанно подчеркивали свою собственную “мужескость”)»[638]. Обновленная католическая религиозность бросала вызов представлению элиты об однородном и управляемом сообществе граждан, послушных руководству мудрых секулярных политиков. Уже не обманывая себя насчет динамики перемен в современном католицизме, некоторые его критики стали говорить о католическом «фанатизме» плебса не столько как о пережитке средневекового прошлого, сколько как о предвестии мрачного будущего. При этом сетования на бóльшие по сравнению с протестантским сообществом сплоченность и организованность католиков, степень единства мирян и клира[639] напоминали упреки российской бюрократии православному духовенству в пассивности и апатии перед лицом предприимчивого и напористого «латинства».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.