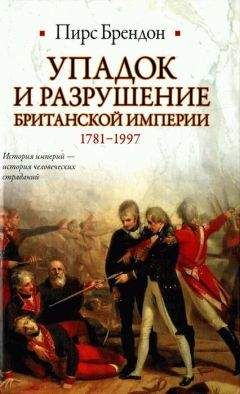Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Дальнейшие откровения Бобровского насчет вредоносности евреев весьма банальны («Может ли француз понять зло от еврейского многолюдства, когда в 36-миллионном населении Франции считается евреев 3995, а у нас (в губернии. – М.Д.) в массе 850 000 душ живет их до ста тысяч?»), но значимым было само смещение акцента на иную, нежели русско-польская, линию противостояния[462]. В сводной таблице по численности «племен» Бобровский суммировал данные о «русских» и «поляках» в итоговой графе «славяне»[463]. Том был подготовлен к печати еще до Январского восстания, а увидел свет именно в 1863 году, когда эта статистическая рядоположенность казалась анахронизмом.
Член-сотрудник РГО Д. Афанасьев, отвечавший за Ковенскую губернию, где большинство населения составляли литовские крестьяне-католики, рисовал картину мирного соседства почти десятка конфессиональных групп, которые он, невзирая на разницу в их численности, представлял читателю на одном дыхании, словно актеров в пьесе: православные, староверы-беспоповцы, католики, лютеране, реформаты, англиканцы, евреи («талмудисты и хассидимы»), караимы, мусульмане-сунниты (литовские татары). Один из примеров, приведенных в подтверждение тезиса, что нет «никакой неприязни между последователями различных религий», высвечивал заодно сложную проблему соотношения разговорного языка и этнического происхождения: «…в юго-восточной части Новоалександровского уезда местные жители, смесь белоруссов, литовцев и кривичей, – католики, говорящие только белорусским наречием, охотно слушали православное богослужение до закрытия пришедших ныне в ветхость храмов»[464].
Несторовские кривичи возникают в процитированном пассаже не случайно. Составители «Материалов…» были хорошо знакомы с этнографическими очерками, травелогами и прочей литературой, изданной в первой половине XIX века преимущественно на польском, но также и русском языках в духе краевого – или, на польский и белорусский манер, краёвого – «литвинского» патриотизма, который в особенности культивировался в Виленском университете в 1820-х – начале 1830-х годов. Сегодня в белорусской историографии не утихают дискуссии о том, были ли такие деятели, как М. Бобровский (дядя упомянутого выше П. Бобровского), И. Данилович, Ю. Ярошевич, Т. Нарбут и другие, ранними белорусскими националистами[465]. «Литвинская» историческая школа, основатели которой называли сами себя чаще всего «литвинами» или «русинами», не описывала восточнославянское крестьянство, проживавшее на Виленщине, Гродненщине, Минщине, как единое целое. Наряду с польским термином «białorusiny», или, на русском, «белоруссы», в первой половине века более или менее устойчиво ассоциировавшимся только с Могилевщиной и Витебщиной, к населению разных местностей и по разным случаям прилагались такие двусоставные лингвистические характеристики, как «mowa sławiano-krewicka» (славяно-кривицкое наречие) или «славяно-литовское наречие»[466]. Оригинальный последователь виленского «литвинства», этнограф и журналист А. Киркор, который издавался и на польском, и на русском и работы которого конца 1850-х годов с пылу с жару читались и усваивались составителями «Материалов…», в одной из статей о населении Виленской губернии определял большинство сельских жителей Свенцянского уезда как «славян-белоруссов», а Ошмянского уезда – как «славян-кривичей»[467].
В «Материалах…» это этнонимическое многоцветье приобретало особый смысл. Главным критерием, как писал П. Бобровский, «в определении народностей, в разграничении одного племени от другого» офицеры-статистики провозглашали язык, и то, что прежде виделось «племенной» разрозненностью, могло быть теперь описано на систематизирующий лад через понятие о диалектах и других формах языкового родства. Вот как это получалось у того же Бобровского, который был, к слову, не совсем профаном в языкознании:
Что страна, составляющая нынешнюю Гродненскую губернию, была и есть действительно Русская, т. е. населенная по преимуществу народом русским… в том мы убеждаемся: во-1-х, из исторических памятников, до нас дошедших, и во-2-х, из языка главной массы народонаселения, которая, вследствие исторических событий, утратила только частию первоначальную веру, но сохранила свой первобытный язык – язык дреговичей, древлян, бужан и наревьян.
Каждую из групп, выделяемых по признаку говора и локализуемых в известных границах, Бобровский наделял еще и почтенной генеалогией: «белоруссы» оказывались «потомками кривичей», «черноруссы» – «дреговичей», а живущие в южных уездах и говорящие на «малороссийском языке, в наречиях пинском и волынском», «полешуки» и «рушки» – «потомками древлян и бужан». Политический подтекст насыщения палитры русскости столь пестрыми красками виден, к примеру, из следующего хода аргументации:
В уездах Бельском и Белостокском, от близости поляков и частого с ними сообщения, язык, местами белорусский, местами малороссийский, подчинился некоторым изменениям, отчего образовалось несколько оттенков того и другого языка, которыми говорят жители русского происхождения; при всем том эти подречия сохраняют свой коренной тип, по которому русское население страны резко отличается от польского[468].
По этой логике, множество диалектов и, соответственно, разновидностей «русской народности» напоминало о последствиях польской экспансии (словно крона дерева, чья неровная форма запечатлела буйства стихий) – однако не только о них, но и о жизнестойкости исконно русского люда перед ассимиляционным напором с запада. Перечисление «племен» звучало торжествующим «вот как нас много!», а актуализация древних летописных названий низводила эру Речи Посполитой на этих землях до уровня затянувшегося сна истории. Это нашло выражение и в картографическом опыте коллеги Бобровского по Виленской губернии А. Коревы, который показал в цвете территории компактного проживания «белоруссов», «черноруссов» и «кривичей» (последние у него не предки, как у Бобровского, а современники и соседи первых)[469]. Такое применение статистики этнических различий, конечно, не отвечало стандартам беспристрастной науки, но все-таки отличалось от более поздней гомогенизирующей и нивелирующей политики и идеологии. Это был способ оспорить польское первенство в крае, не ввязываясь во фронтальный конфликт с польскими элитами.
В некоторых случаях актуализация восточнославянских топонимов и этнонимов на землях бывшей Речи Посполитой сопровождалась не только историческими спекуляциями, но и попытками символически возвысить самое определение «русский». В 1862 году обрусевший литовец С.П. Микуцкий, впоследствии принявший самое активное участие в мероприятиях виленских властей по переводу литовской письменности с латинского на кириллический алфавит[470], делился с этнографом, собирателем белорусского фольклора москвичом П.А. Бессоновым весьма неординарными мыслями: «С XVI века педанты-грамотеи стали вводить в книжный язык речения: Россия, российский, – пора бы изгнать из официального слога эти педантские слова и писать: “Император и Самодержец всея Руси”, “Русская Империя”. В известное время Русь разделилась на Восточную, Московскую, или Черную, т. е. податную (потому что она платила дань монголам), и Западную, Литовскую, или Белую… Стало быть, названия Черная и Белая Русь имели историческое основание»[471]. (Далее Микуцкий оспаривал применение названия «Черная Русь» к местностям Северо-Западного края.)
Открытие заново языкового и культурного разнообразия края происходило в будоражащей атмосфере политической неопределенности, свойственной началу правления Александра II. На этой волне возникали замыслы формирования, как сказали бы мы сейчас, переходных, раздвоенных или гибридных идентичностей – более «мягких», чем те, которые пыталась инвентаризировать официальная статистика. Нашла новое применение и идея регионально-культурного «литвинства». Уже знакомый читателю А. Киркор предложил властям план действий по отношению к дворянству северо-западных губерний, которые должны были возвеличить независимую от Польши память о Великом княжестве Литовском и раскрыть дворянам глаза на их родство с простонародьем. Киркор толковал о «развитии литовской национальности» (в тогдашнем значении народного характера, качеств и т. п.), избавленной от необходимости подражать полякам и призванной сблизиться с Россией, сохраняя при этом свою неповторимость. С этой точки зрения, придуманная Н.Г. Устряловым схема русской истории, согласно которой Великое княжество Литовское было, в сущности, «русским» государством, не могла его удовлетворить[472].
Особенно интересна записка Киркора, поданная в 1857 году в Министерство народного просвещения в подкрепление ходатайства об издании в Вильне журнала на польском языке и раскрывающая, по словам автора, «образ воззрения моего на Литовский край и мои политические верования». Он объяснял, почему император не должен опасаться активизации общественной жизни в Северо-Западном крае, и сочетал в своих доводах традиционный династический легитимизм с напоминающей славянофилов апологией «народа». Хотя местоимение «мы» перемежается в тексте с наименованием «литовцы» («Многие жестоко ошибаются, полагая, что интерес славянский чужд для литовцев. …Мы рады делить общие судьбы славян…»), на вопрос о том, что значит быть литовцем, автор не дает прямолинейного ответа. Конструируемому им сообществу не нужны такие жесткие скрепы, как единый язык, а единая – католическая – вера хотя и приветствуется, но помещается в один ряд с благодарностью монарху за внимание и покровительство краю. Для благородного сословия, от лица которого Киркор обращается к имперским властям, воспитание в себе литовского самосознания совместимо с сохранением верности польскому языку и культуре:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.