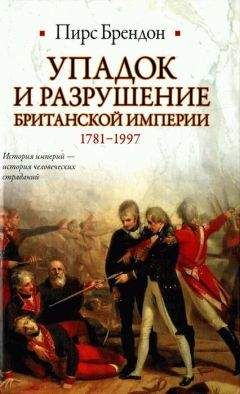Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Описание и краткое содержание "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать бесплатно онлайн.
Опираясь на христианские и нехристианские конфессии в повседневных делах управления, власти Российской империи в то же самое время соперничали с главами религиозных сообществ за духовную лояльность населения. В монографии М. Долбилова сплетение опеки и репрессии, дисциплинирования и дискредитации в имперской конфессиональной инженерии рассматривается с разных точек зрения. Прежде всего – в его взаимосвязи с политикой русификации, которая проводилась в обширном, этнически пестром Северо-Западном крае накануне и после Январского восстания 1863 года. Царская веротерпимость была ограниченным ресурсом, который постоянно перераспределялся между конфессиями. Почему гонения на католиков так и не увенчались отказом католичеству в высоком статусе среди «иностранных вероисповеданий» империи? Каким образом юдофобия, присущая многим чиновникам, сочеталась с попытками приспособить систему государственного образования для евреев к традиционной религиозности? Поиску ответов на эти и другие вопросы, сфокусированные на отношениях государства, религии и национализма, посвящена данная книга.
Активность местного дворянства заставила виленскую администрацию поспешить с выдвижением более четкой концепции русскости Западного края. Первым делом были поставлены новые задачи в области народного образования. Уже в сентябре 1861 года попечитель Виленского учебного округа князь А.П. Ширинский-Шихматов представил в Министерство народного просвещения доклад, в котором призывал «воскресить древнюю, коренную русскую народность, подавленную долголетним гнетом пришлого польского населения». Он предлагал увеличить число гимназий и приходских школ и формировать преподавательский штат из уроженцев великорусских губерний[450].
Спустя несколько месяцев Назимов выступил в Петербурге с идеей об учреждении в Вильне университета. В противоположность предложениям Старжинского, а также и подготовленному в Министерстве народного просвещения проекту открытия в Вильне институтов, предназначенных для «очищения» внутренней России от польской молодежи (что косвенно служило бы признанию Северо-Западного края польским), речь шла об университете, где не только профессура, но и большинство студенчества были бы русскими. После того как в мае 1862 года А. Лаппа обратился в Министерство народного просвещения с прошением о том, чтобы поручить поместному дворянству надзор за системой образования в крае, а в особенности за организацией начальных школ для сельского люда, с обучением на польском языке, полемика приняла ожесточенный характер. В ответ Назимов летом 1862 года представил записку, которая вместе с его же докладом от 17 октября об адресе минских дворян может считаться первым серьезным опытом социальной радикализации «полонофобного» дискурса власти в связи с проблемой Западного края.
В чем именно состояло это новшество? Двадцатью годами ранее киевский генерал-губернатор Д.Г. Бибиков столь же эмоционально толковал об угнетении православного крестьянства поляками-католиками. Но никогда до отмены крепостничества в 1861 году власть не противопоставляла польскоязычное дворянство крестьянству как пробуждающейся народной массе, обретающей сознание своих прав и интересов: «…для чего же до настоящей минуты дворянство не думало о своих обязанностях в отношении меньших братьев и, дозволяя им коснеть в невежестве до тех пор, пока само правительство не вызвало их к жизни разумной, сознательной, теперь вдруг с такою горячностью заявило права свои на образование этих братьев, которых в течение трех веков довело до потери и религиозных убеждений, и народности, и родного языка, и ясного человеческого познания». Назимов описывал полонизацию «народа» в терминах изувечения живого организма: «…польское дворянство… при помощи [католического] духовенства впилось, так сказать, в тело и кровь украинского, литовского и белорусского населения». Несмотря на кажущуюся крайность этих органицистских метафор, они вовсе не исключали трезвого понимания того, как работают ассимиляционные механизмы в среде населения без откристаллизовавшейся этнокультурной идентичности. Назимов потому и восставал так горячо против передачи в руки шляхте начальных школ, что предвидел вероятность успешного для «полонизаторов» результата культуртрегерских усилий, который выглядел бы впоследствии естественным плодом исторического развития: «…оно [польское дворянство] могло бы впоследствии, опираясь на повсеместное укоренение польского языка… с большею законностью заявлять права свои на этот народ». В записке, представленной в феврале 1863 года министру народного просвещения, Назимов нарисовал образ похищения и утилизации поляками народного тела с особой экспрессией: «Если со стороны Правительства не будут приняты меры к ограждению русской народности в Западном крае от такого незаконного посягательства, то надлежит ожидать, что чуждое этому краю польское направление вопьется в плоть и кровь здешнего русского народа и со временем устами его заговорит в пользу польского дела»[451].
Важно подчеркнуть, что усвоенное Назимовым представление о крестьянстве Западного края как объекте ассимиляционной стратегии польской шляхты отражало воззрения самих деятелей польского движения. Многие из поляков, глубоко преданных идеалу Речи Посполитой в границах 1772 года, отнюдь не закрывали глаза на этническую инакость простонародья в «забранном крае», не спешили объявить его «исконно польским». Имеет смысл процитировать фрагмент записки, которую в декабре 1862 года капитан Генерального штаба, а в скором будущем предводитель одного из крупнейших повстанческих отрядов в Литве З. Сераковский подал военному министру Д.А. Милютину. Если Старжинский в те же месяцы осторожно пропагандировал автономию для Западного края, то Сераковский, представлявший левое крыло «белых», выдвинул идею переустройства отношений между русскими и поляками на федеративных началах, предлагая допустить в Западном крае языковое равноправие по швейцарской модели. Чтобы опровергнуть тезис о русскости Западного края, он пускал в ход следующие аргументы:
…Называющие Западный край Россиею забывают, что ремесленник мало-мальски грамотный, что крестьянин разжившийся делаются в этом крае поляками, но не великорусами, что польский элемент, что польская цивилизация проникли в плоть и кровь жителей этого края. …Дети великорусов, служивших долгое время в этом крае, делаются поляками. Не делаются же они татарами в Казани, башкирцами в Оренбурге. …Чтобы объяснить эти явления, необходимо признать, что польская цивилизация стоит выше других в Западном крае, что она лучше всего соответствует современным стремлениям более развитых личностей этого края[452].
Сама логика рассуждений Сераковского (не забудем, что писал он самому главе Военного министерства!) близка назимовской, совпадает даже метафора проникновения польскости в «плоть и кровь» населения. Но если первый считал полонизацию приобщением к более высокой культуре, другой усматривал в ней отступничество от веры и языка предков.
Польские представления об ассимиляционном воздействии на крестьянство отчасти были реализованы в Западном крае в деятельности мировых посредников в 1861–1862 годах. Большинство их было назначено весной 1861-го по рекомендациям уездных предводителей дворянства, и тогдашнее руководство МВД в лице С.С. Ланского и Н.А. Милютина, за неимением времени и точных сведений, не подвергало представленные кандидатуры такой тщательной селекции, которую прошли мировые посредники в великорусских губерниях. Результаты работы местных мировых посредников по составлению уставных грамот, достигнутые к началу 1863 года, свидетельствовали о несомненной сословной заинтересованности многих из них в защите экономических выгод местного дворянства. Но в польском обществе от посредников ожидали также выполнения цивилизующей миссии. Инструкция посредникам, вышедшая, судя по всему, из круга «белой» эмиграции в Париже, побуждала их забыть, что «они сами землевладельцы», и помнить «преимущественно, что они поляки и вместе чиновники, судьи, стражи правосудия». Совмещая точное исполнение закона с патерналистским отношением к крестьянам, посредники должны были стать на место «варварской» российской администрации.
Важная роль при этом отводилась самому процессу общения с крестьянами:
Парижанин не поймет бретонца или провансала, житель Берлина или Вены, слушая народное немецкое наречие (так называемое «plattdeutsch»), полагает, что [это] язык голландский, а житель Лондона не знает ни слова из наречия валлийского. Поляк же, лишь бы только слушал повнимательнее, всегда поймет всякого русина… Вот это-то и необходимо разъяснить не понимающим означенных обстоятельств крестьянам, которые редко слышат польскую речь, так как управители и дворовые власти говорят с ними на их же народном языке, а власти правительственные – по-московски. Посему с русинами должно говорить почаще по-польски, тем более, что врожденное каждому человеку желание подражать образованному классу общества поможет ко всеобщему распространению между ними польского языка[453].
Как мы увидим ниже, ссылки на те же европейские аналоги, влекущие за собой, однако, прямо противоположные выводы, вошли и в арсенал полемических приемов имперской бюрократии.
Связь роста польского сепаратизма с крестьянской реформой в империи дала позднее повод многочисленным пропагандистским спекуляциям российских бюрократов и публицистов. Так, широкое хождение имела версия, будто восстание непосредственно вызвано реакцией озлобленных корыстных «панов» на освобождение крестьян. Она, конечно, не выдерживает критики. Но реальная мотивация многих представителей шляхты действительно имела отношение к реформе 1861 года: освобождение крестьян западных губерний и предоставление им наделов ставило ребром вопрос о национальной идентичности этой массы населения. Освобождение было вызовом воззрению шляхты на своих бывших крепостных как принадлежность польской нации, как потенциальных поляков. Имперская власть и шляхта вступали в последнюю схватку не столько за рабочие руки, сколько за «души» крестьян.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Книги похожие на "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Долбилов - Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"
Отзывы читателей о книге "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II", комментарии и мнения людей о произведении.