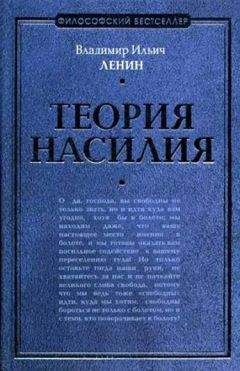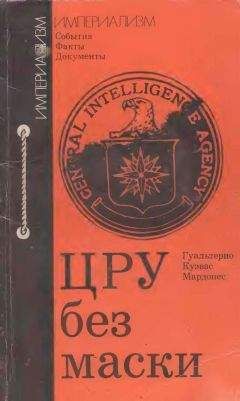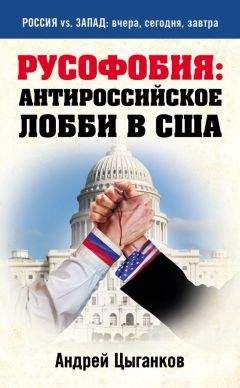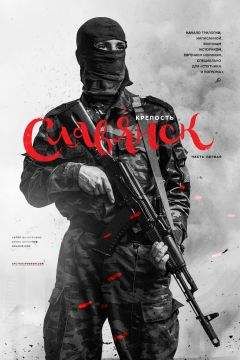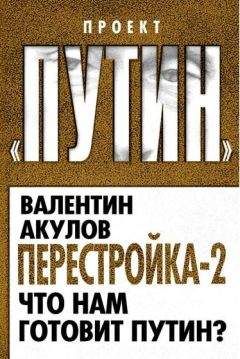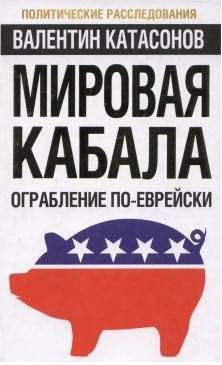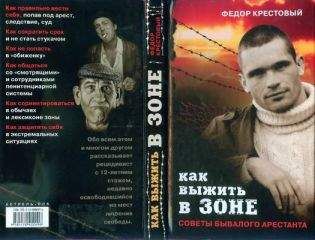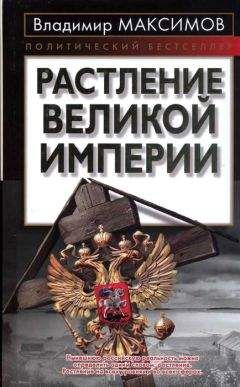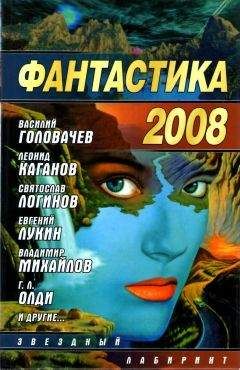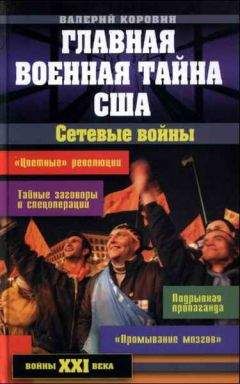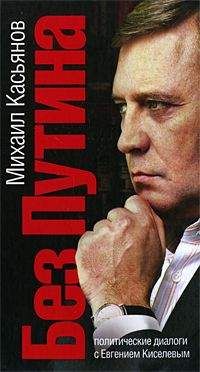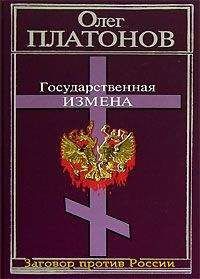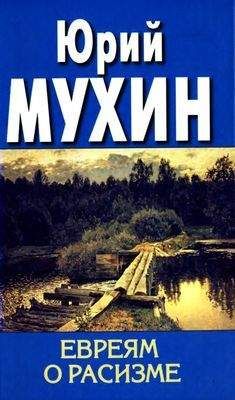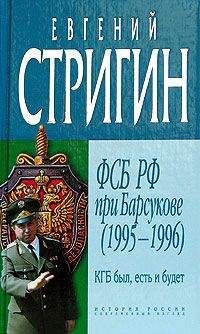Евгений Гнедин - Выход из лабиринта
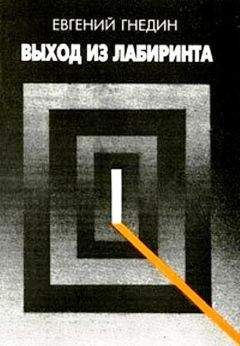
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Выход из лабиринта"
Описание и краткое содержание "Выход из лабиринта" читать бесплатно онлайн.
Настоящим сборником представлено главное из творческого наследия Евгения Александровича Гнедина, личность и труды которого сыграли заметную роль в формировании независимого общественного сознания в нашей стране, особенно в 1960-1980-е гг. В первую очередь это относится к его мемуарам — уникальным воспоминаниям и размышлениям сына профессиональных революционеров, известного публициста и крупного дипломата, чья деятельность была оборвана в 1939 году арестом и последующими пятнадцатью годами тюрьмы и ссылки.
Сборник подготовлен по инициативе и при участии Научно-информационного и просветительского Центра "Мемориал". Обо всём этом и не только в книге…
…Для того чтобы по возможности объективно осветить тему, которой посвящено это письмо, я должен ответить самому себе и воображаемому читателю вот на какой вопрос: (…) в повседневной жизни рядовые рабочие отличали командира-специалиста от командира-тюремщика, интеллигента от «придурка»?…Для того, кто знает и помнит лагерную жизнь, ясно, что бригадир Тюрин не один «кормил» бригаду, но значительная заслуга в том, что Тюрин, как рассказано у Солженицына, «хорошо закрыл процентовку», принадлежала члену бригады Цезарю Марковичу, который, когда бригада в целом не могла в лагерных условиях выполнять норму, должен был брать на себя ответственность за выписку «высоких паек» хлеба. Я высказываю такое предположение не в качестве бывшего нормировщика — им я никогда не был, — а в качестве бригадира с многолетним опытом. Я хорошо запомнил и тех нормировщиков, которые помогали обеспечить бригаду хлебом, и тех, кто старался заслужить благоволение начальства, игнорировал тяжесть повседневного труда заключенных.
Но, несколько расходясь с Иваном Денисовичем в оценке личности Цезаря Марковича, как я ее понимаю, должен подтвердить, что для большей части работяг «конторские» были чужаками. Однако эмоциональное отношение, ненависть они испытывали к придуркам, находившимся, по слову Ивана Денисовича, в спайке с начальством, а женщин, якшавшихся с надзирателями, просто презирали.
Рабочие умели устанавливать различие и между им лично не знакомыми людьми интеллигентных профессий. Я помню, каким уважением пользовался инженер, занимавший благодаря своей одаренности руководящую должность на производстве и спасавший работяг от придирок и преследований со стороны лагерной администрации. Я вспоминаю одного агронома, который в поле орал на рабочих, отчасти по свойству характера, отчасти потому, что он был энтузиастом своего дела и добивался высоких урожаев; несмотря на свою требовательность, он в отличие от других руководителей был уважаем рабочими, которые знали, что «Давид накормит», не побоится начальства. Рабочие видели разницу между «твердыми придурками», занимавшимися махинациями в бухгалтерии и, например, работавшим в бухгалтерии скрупулезно честным и благожелательным учителем из Риги, светлым идеалистом.
Рабочая масса умела видеть различие и между отдельными представителями такой важной группы интеллигенции, как медицинские работники. К сожалению, и среди них попадались «придурки» и карьеристы. Сцена в амбулатории, описанная Солженицыным, глубоко правдива. Всякий, кто бывал на общих работах, испытывал чувство горечи, возмущения и просто страха, когда плелся больной в колонне, потому что против него сработала бюрократическая статистика в руках равнодушного или трусливого человека. Но не сомневаюсь, что и Ивану Денисовичу на протяжении его лагерного срока «медицина» не раз протягивала руку помощи. Мужество и гуманность врачей и других медицинских работников спасли жизнь и вернули бодрость духа многим страдальцам.
Если существовала «спайка» между придурками и начальниками, то, как я уже говорил, существовало товарищество и между заключенными различных категорий. Лагерные работяги уже потому не чуждались интеллигентов, что были свидетелями того, как те работали, страдали и погибали рядом с ними. Рабочие бывали свидетелями столкновений между начальством и независимыми, «нерапортующими» интеллигентами. Помню случай, когда бригадира-интеллигента прямо с вахты уволакивали в изолятор за то, что он решительно выступал в защиту бригады от придирок надзирателей. Приведу еще только два сравнительно безобидных примера. Десятник на производстве в спокойную минуту при слабом свете костра листал книгу и не заметил, как подошел начальник работ. Возмущенный тем, что зек читает книгу (это, конечно, было нарушением режима), начальник гневно пригрозил посадить десятника на трое суток, если план в эту смену не будет выполнен. Вряд ли члены бригады когда-нибудь работали с таким рвением как в тот раз, когда надо было избавить десятника от наказания. Бригадир смешанной бригады, состоявшей частично из уголовников, чечен, плохо говоривший по-русски, рассказал однажды своему мастеру, что незаметно для него бригадники заглянули в его вещевой мешок, который всегда был туго набит. «Мы думали, что там пайки хлеба, которые ты набрал, а там оказались одни лишь книги. Мы поняли, что ты не придурок, а ученый человек, и решили тебя не подводить, а на работу нажать».
Лагерные работяги не считали, что размышляющий человек опасен, и уважали мысль, если замечали, что она придает человеку силу. Но именно проявления этой силы не желало лагерное начальство, оно считало враждебным элементом идейного человека, сохранившего в заключении способность рассуждать. В самой природе лагерного режима были заложены предпосылки того, что не могло быть водораздела между незаконно осужденными интеллигентами, рабочими или крестьянами, если они оставались нравственными людьми, проявлявшими стойкость и чувство товарищества в часы испытаний и перед лицом тюремщиков. И, наоборот, естественная грань отделяла массу заключенных от «придурков» и от аналогичных проводников беззаконий, проводников и защитников продиктованного Сталиным ежовско-бериевского режима в лагерях.
…Рассказываем мы о прошлом ради живых и ради тех, кто будет жить. Это обязывает к сугубой самокритичности. Лев Толстой в одном из набросков к «Анне Карениной» писал: «Она именно умела забывать. Она… как бы прищуриваясь глядела на прошедшее с тем, чтобы не видеть его всего до глубины, а видеть только поверхностно. И она так умела подделаться к своей жизни, что она так поверхностно и видела прошедшее». В произведениях, опубликованных после повести «Один день Ивана Денисовича», заметно стремление «подделаться к своей жизни» и поверхностно глядеть на лагерное прошлое, на наше прошедшее. Нам не нужны подделки. Нам нужен чистый звук. Мы должны помнить, что сейчас, более чем когда-либо, правильное освещение прошлого — необходимое оружие в борьбе, которую надо вести в настоящее время.
12 декабря 1964 г.
III. ИЗ ШЕСТИДЕСЯТЫХ В «ДРУГУЮ ЖИЗНЬ»
…Гололедица — твой грех, эпоха!
Нет пути, и скользит нога…
От эпохального переполоха
До сумасшествия — полшага.
Е.Гнедин. «1 января 1981 года»ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ (1965–1966)
Цель этих записей — зафиксировать, видимо для потомков, существенные факты из жизни советского общества, факты, которые не получили широкой огласки, но сыграли немалую роль в ходе дела, во всяком случае отразили важные тенденции в политической и общественной жизни.
ФонПрежде чем записать факты, относящиеся непосредственно к периоду, предшествующему XXIII съезду партии, запишу в общей форме впечатления современников о значении отставки Никиты Сергеевича Хрущева.
Так как навязанные им обществу мероприятия в области экономики, им самим и его помощниками, а, возможно, и врагами, были доведены до абсурда, положение в сельском хозяйстве стало катастрофическим, а в промышленности, во всяком случае, крайне запутанным, — первое впечатление сводилось к тому, что устранение Хрущева диктовалось крайней необходимостью приостановить поток непродуманных импровизаций и искать разумный выход из создавшегося нетерпимого положения.
Хотя такое положение совпадало по сути, но не по форме, с официальными объяснениями, на деле очень скоро выяснилось, что первостепенное, если не решающее, значение имело намерение большинства членов Президиума [ЦК КПСС] договориться с Китаем. Они ошибочно предполагали, что для этого достаточно пожертвовать Хрущевым. Это была ошибка, свидетельствовавшая об отсутствии дальновидности и умения анализировать исторический процесс по существу.
У нас не было определенного впечатления, что…готовность договориться с китайским руководством сочеталась с самого начала с решимостью ликвидировать ради этого политику, основанную на решениях XX съезда. В том-то и дело, что, видимо, правящая группа не понимала, что не достаточно формальных жестов вроде свержения Хрущева, чтобы ликвидировать спор с китайцами. В том-то и дело, что руководители страны не учли (или не хотели додумать до конца) историческую суть и неизбежность конфликта с нынешним правительством [Китая].
Для жизни общества важнее другое: устранение Хрущева было понято не только сталинистами, но и просто чиновниками, желавшими делать карьеру, как сигнал к выступлению против решений XX съезда и за восстановление авторитета Сталина. Такие настроения объединяли разных людей, к их числу принадлежали:
1. сталинисты различных профессий (полковники в отставке, бывшие работники аппарата репрессий, «люди длинных ножей»), уверенные, что они скоро пригодятся, тупые или циничные поклонники «вождя» и т. п.;
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Выход из лабиринта"
Книги похожие на "Выход из лабиринта" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгений Гнедин - Выход из лабиринта"
Отзывы читателей о книге "Выход из лабиринта", комментарии и мнения людей о произведении.