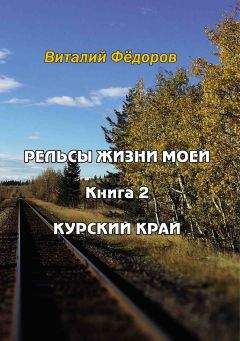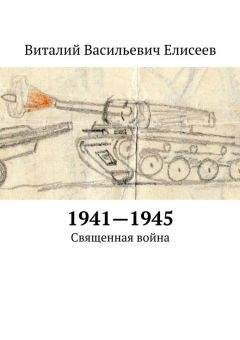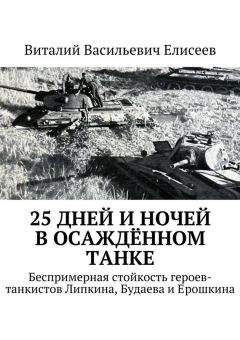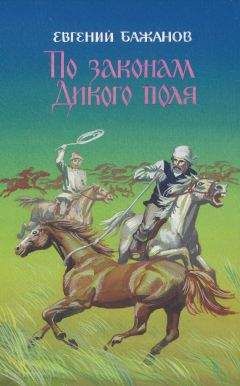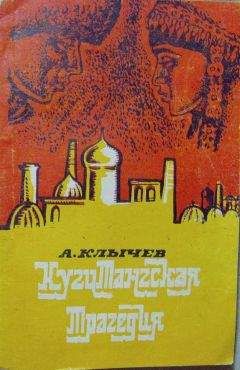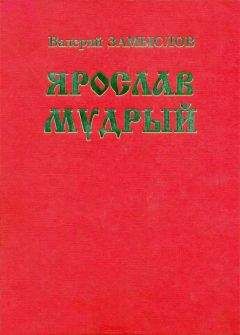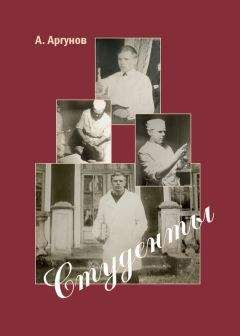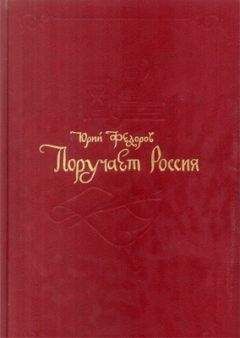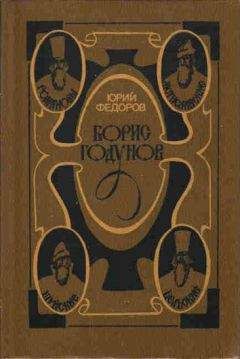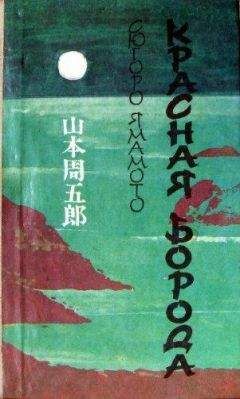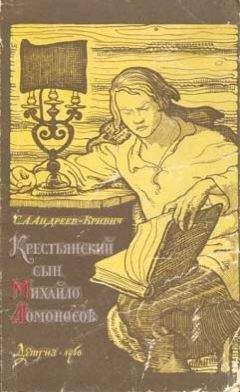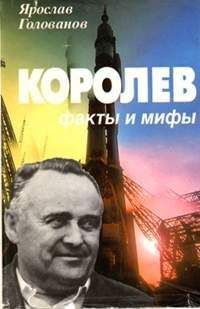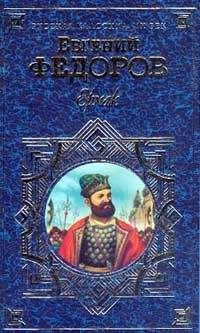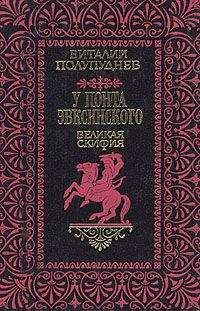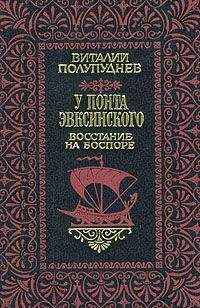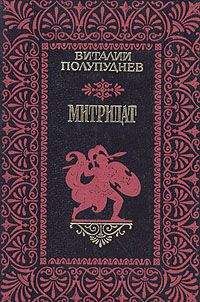Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969
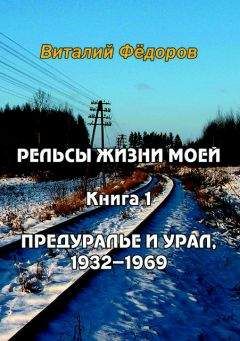
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Описание и краткое содержание "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969" читать бесплатно онлайн.
В этой книге автор рассказывает нам историю своей жизни. Он рос босоногим мальчишкой в глухом удмуртском селе, но мечтал водить поезда.
Виталий Hиколаевич Фёдоров бережно сохранил в памяти и перенёс на бумагу общую атмосферу тридцатых-шестидесятых годов двадцатого века, уделяя особое внимание мелочам быта. Описал то, какое влияние на судьбы простых людей оказала война, как в их жизнь вмешивалась большая политика.
В книге использованы фотографии из личного архива автора.
© Автор Виталий Фёдоров
© Редактор Владимир Фёдоров, e-mail: [email protected]
© Корректор Ольга Давыденко
В прошлом году был хороший урожай зерновых. Но убрать его весь не смогли. Совсем не было уборочной техники, злаки срезали вручную серпами. Рабочих рук тоже не хватало, а тут ещё зима поспешила, и неубранные поля оказались под снегом. Весной 1946 года кто-то хотел воспользоваться зерном, вытаявшим из-под снега, но власти строго-настрого запретили его собирать, пугая народ, что оно, пролежав под снегом зиму, стало ядовитым. Ослушавшимся грозили карами. А кара была обычной в то время, десять лет лагерей, несмотря на возраст, пол и семейное положение.
Лето 46-го выдалось засушливым. Сильно пострадали зерновые, да и в огородах мало что выросло. Картошки и то накопали меньше, чем обычно. Поливать было некогда, основное время занимала работа в колхозе. Наша река за огородами пересохла, а из соседского колодца глубиною около десяти метров воды не наподнимаешься. В обычные же годы поливать приходилось лишь огурцы, которые росли на навозных грядках.
А тут появилась ещё одна напасть. Крупная зелёная гусеница в несметных количествах объедала все листья насаждений. Особенно понравилась ей наша раскидистая черёмуха, что росла около угла дома. Несколько крупных ветвей располагались у нас почти на крыше. С этой черёмухи мы обычно собирали около десяти литров ягод. Её сушили, толкли или мололи, а зимой пекли пироги или шаньги. Гусеницы буквально заполонили ветви и жадно поедали цветы, завязи и листья. И вдруг на нашей черёмухе над самым окном дома появилась кукушка – лесная вещунья – да начала так громко куковать, что становилось страшно, аж мурашки по коже. Так продолжалось много дней. К ней прилетал даже «кук» – мужская особь кукушки, но он куковать не умел, а лишь произносил звук «кну, кну», но тоже громко. Похоже было, что к нам их привлекли многочисленные гусеницы, которых они, возможно, поедали. Но нам почему-то казалось, что эти птицы накукуют беду. Так оно и случилось. На следующий год разразился голод!
Гусеницы не исчезли, пока на нашей черёмухе не сожрали последний зелёный листик и кукушки не перестали к нам прилетать. К осени пошли дожди и черёмуха начала зеленеть мелкими листочками, которые вскоре опали.
* * *Осенью мне исполнилось 14 лет – возраст перехода мальчика в юноши по местным возрастным меркам послевоенного периода. Каждую осень молодёжь, отдельно от старших, накануне Покрова устраивала праздник. На него приглашали сверстников из одной из соседних деревень, или наоборот, шли в гости с ответным визитом. Это была давняя традиция. В эту осень наши ребята и девчата были приглашены в соседнюю деревню километрах в шести-восьми от нас. Юношей не хватало, и меня и нескольких моих сверстников пригласили поучаствовать в этом «походе». Каждый желающий должен был внести небольшой взнос, что мы и сделали, став полноправными участниками праздника.
Одеться все старались получше. Я, например, надел тёмно-синий китель, который остался на память от папы. Рукава оказались длинными, и их пришлось подвернуть. На ногах сапоги, которые сшил дядя Семён. Собрались мы под вечер у конторы – клуба. И оравой человек в двадцать двинулись пешком в неизвестную мне деревню.
«Ведущими» были девушки на выданье 17–20 лет; среди них выделялась моя кузина Юлия. Погода была осенняя, дорога была грязная, стало темнеть. И тут к месту пришлась песня, начатая девушками; мы дружно её подхватили. Пели «Туманы мои, растуманы» про партизан, уходивших в поход на врага. Но мы-то шли в гости, и нам было весело, не то что партизанам. А с песней про смуглянку-молдаванку мы вошли в деревню. Хозяева нас встретили ещё на улице и повели в дом, где всё было готово для встречи гостей. После процедуры знакомства нас всех усадили за накрытые столы. Угощение было вкусным и сытным. Выпивка традиционно русская – самогон. Но нам, дебютантам, налили по сто граммов и не более, чтобы никому не было «нехорошо».
После застолья начались песни, пляски и игры. Из музыкальных инструментов были балалайка и патефон, а позже появилась и гармонь. Было интересно и весело. Мы пели, играли и танцевали, но после полуночи нас, «малышей», стал одолевать сон, и всю нашу «команду» отправили на полати. Мы разулись, но раздеваться не стали и завалились спать. А более взрослые ребята и девчата продолжали праздновать и веселиться.
Наутро нас разбудили. После умывания мы все вновь были приглашены за стол. Так как никто из нас на здоровье не жаловался, нам ещё налили горячительного. Позавтракав, мы сердечно попрощались с «хозяевами» и пригласили к нам в гости на следующий год. Затем отправились домой и к обеду уже вернулись обратно. Это было первое моё такое путешествие, оно же оказалось и последним.
* * *Этой осенью я стал учиться в седьмом классе. Он был выпускным и в конце учебного года выдавали «Свидетельство об окончании неполной средней школы». В классе снова появился учитель немецкого, и снова нужно было учить этот ненавистный язык. Нужно же было хоть как-то заканчивать семилетку.
Поскольку летом была засуха, то осенью по итогам года на трудодень не выдали ни грамма зерна, и люди остались без хлеба. А денег в колхозе вообще не платили. Маме хлебные карточки перестали выдавать ещё в конце 1942-го, когда закончилась эпидемия тифа. Мы получали пособие за погибшего на фронте отца – 125 рублей. Но на них практически невозможно было купить ни грамма хлеба, он выдавался только по карточкам. Карточки получали же работники промышленной сферы, горожане, чиновники всех мастей и их иждивенцы. В свободной продаже хлеба вообще не было. Интересно, что работники совхозов за свою работу получали и деньги, и карточки, а колхозники – тоже работники сельского хозяйства – не имели ни того, ни другого. Но совхозов было очень мало; за всю мою жизнь мне встретился лишь один.
Питались мы в основном картошкой. Зимой наша тёлочка стала коровой и начала давать молоко. Появился и телёночек, но его пришлось пустить на мясо. Так мы дожили до весны. Люди были в отчаянье, рубили, дробили кости овец и телят и мололи их на мельнице, благо она всё перемалывала. Мололи и солому, и молодые ветки липы, всё это превращали в муку. Из неё пекли лепёшки-обманки, и их ели. Как следствие, у многих начались запоры. Мы тоже кости нашего телёночка перемололи и пекли лепёшки.
Глава 16. В ПЕРВАНОВУ
Мама, насмотревшись всяких страстей (она по-прежнему помогала всем односельчанам, чем могла), решила уехать из Кваки. Как-то она разговорилась с женщиной, которая ещё до войны жила в деревне Перванова Талицкого района Свердловской области. Она описала местность, жителей и даже вспомнила некоторые фамилии местных жителей: Коневы, Комаровы, Черепановы. Причина к перемене места жительства была стара как мир – «поиск лучшей доли».
Появились и ещё две семьи, желающие поехать в дальние края. Первая – молодая пара двадцатилетних супругов, Виктор и Полина Фёдоровы. Детей у них ещё не было. Виктор 18-летним пошёл на фронт, был ранен в ногу и после госпиталя его отпустили домой. К счастью, тут закончилась война и его в армию больше не взяли. Он имел две боевых награды. Полина была девушкой из другой деревни и о ней я ничего не знал. Вторая семья – Ворончихины: он Роман, она Дарья и трое их детей. Старший, Иван, был моим сверстником, и учился со мной в одном классе. Что интересно – все три мальчика были косоглазыми, хотя у родителей этого дефекта не наблюдалось. Роман вернулся с фронта с покалеченной кистью руки, но со временем стал работать наравне со всеми.
На совете «тройки» (трёх семей) было решено, что необходимо съездить на место, посмотреть, получить гарантию трудоустройства и жильё от руководства колхоза. Откомандировали меня и Виктора. Он был симпатичным, высоким парнем, но для фронтовика – скромный и непробивной.
Мне пришлось бросить школу на самом финише учебного года, перед выпускными экзаменами. Ко мне приходили одноклассники, просили от имени классного руководителя вернуться в школу. Я отказался, мотивировав это большим пропуском уроков и плохими знаниями. Перед самыми экзаменами приходил Серафим с запиской от директора школы, в которой она меня просила прийти на экзамены. Уверяла, что я мальчик способный и экзамены сдам. Но вместо этого я отправился на «смотрины» нового места жительства в Свердловскую область.
Начали собираться в путь-дорогу, а она предстояла дальняя, только поездом 820 км, а остальное пешим ходом. Мама мне напекла лепёшек из костной муки с крапивой и другими травами. Дала денег 300 рублей. С утра пораньше мы с Виктором пошли пешком на станцию Балезино и к обеду были на месте. Поели лепёшек, запивая морсом. Было решено ехать на подножках вагонов, так как в кассе нам билетов не досталось.
Документов у меня никаких не было. Одет я был в зипун, на голове фуражка, за плечами котомка. Ни дать ни взять – бездомный бродяжка. Мне никогда ещё самостоятельно не приходилось ездить на поезде, тем более «зайцем».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Книги похожие на "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виталий Федоров - Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969"
Отзывы читателей о книге "Рельсы жизни моей. Книга 1. Предуралье и Урал, 1932-1969", комментарии и мнения людей о произведении.