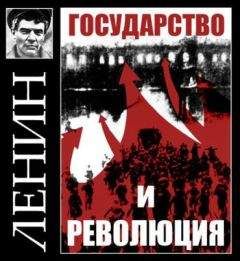Луи Альтюссер - Ленин и философия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Ленин и философия"
Описание и краткое содержание "Ленин и философия" читать бесплатно онлайн.
В философском смысле Ленин непереносим — или был непереносим какое-то время — для всех нас. Потому что в глубине души вопреки всем разговорам о догматичности ленинской философии философы интуитивно чувствуют: не в этом суть дела… Знаю, говорит Ленин, мои формулировки и определения расплывчаты; знаю, философы будут обвинять материализм в "метафизичности". Но суть не в этом. Я не просто не разделяю их философию, я отношусь к философии иначе, я воспринимаю ее как практику… И подлинная проблема в том, что Ленин поставил под вопрос эту традиционную философскую практику и предложил взамен совершенно иное отношение к философии.
Отсюда и необычность позиции Фейербаха, и возможности, которые открывала перед ним его непоследовательность: объявлять себя попеременно либо одновременно (он не усматривал в этом ни лукавства, не непоследовательности) материалистом, идеалистом, рационалистом, сенсуалистом, эмпиристом, реалистом, атеистом и гуманистом. Отсюда и его нападки на Гегеля, у которого спекуляция будто бы свелась к абстракции. Отсюда и его призывы к конкретности, к «вещи как таковой», к реальному, к осязаемому, решительное неприятие любых форм отчуждения, каковое, по его мнению, по сути является абстракцией. Отсюда и его идея «переворачивания» Гегеля, которую Маркс долгое время принимал и разделял как подлинную критику Гегеля, хотя на самом деле она не выходит за рамки эмпиризма, для которого Гегель является лишь сублимированной теорией: свойство превращается в субъект, идея — в осязаемую реальность, абстрактное — в конкретное и: т. д. Старый фокус, его посредственные варианты нам продолжают показывать еще и сегодня.
Вот с каким «теоретическим гуманизмом» столкнулся Маркс. Я говорю «теоретическим», потому что Человек для Фейербаха не только Идея в кантовском смысле слова, но и теоретическая основа всей его философии — как Cogito для Декарта, как трансцендентальный Субъект для Канта, как Идея для Гегеля. Этот, именно этот теоретический Гуманизм мы видим в действии на страницах «Рукописей 1844 г.»
Но перед тем как перейти к Марксу, следует сказать еще несколько слов о последствиях этой парадоксальной философской позиции, которая грозится камня на камне не оставить от немецкого идеализма, но не подвергает сомнению ни один из поставленных им вопросов и для их решения намеревается использовать набор концептов XVIII века, набор, подвластный теоретическому Человеку, заменяющему этими концептами единообразие и «философскую» взаимосвязанность.
Ибо нельзя безнаказанно возвращаться во времена, предшествующие какой-либо философии, не отказываясь от вопросов, поставленных этой философией.
Такой теоретический регресс при сохранении вопросов, возникших позднее, приводит к резкому сужению философской проблематики сегодняшнего дня при видимости ее «переворачивания», которое на самом деле — всего лишь неосуществимое «желание» ее перевернуть.
Энгельс и Ленин заметили это «сужение» проблематики по сравнению с Гегелем. «Рядом с Гегелем Фейербах выглядит карликом». Обратимся к главному: из наследия Гегеля Фейербах неоправданно пожертвовал Историей и Диалектикой, а точнее, Историей или Диалектикой, поскольку у Гегеля это одно и то же. Тут Маркс, Энгельс и Ленин опять-таки не ошиблись: Фейербах — материалист в том, что касается науки, но… он идеалист в том, что касается истории. Фейербах рассуждает о природе, но… не говорит об Истории, ее место у него занимает Природа. Фейербах — не диалектик. И т. д.
Эти суждения обоснованны, но с позиций сегодняшнего дня нуждаются в некотором уточнении.
Разумеется, у Фейербаха об истории сказано немало, он умеет различать «индусскую человеческую природу», «иудаистскую», «древнеримскую» и т. п. Но мы не найдем у него теорию истории. А главное, у него нет и следа той теории истории, которой мы обязаны Гегелю, — истории как диалектического процесса создания форм.
Конечно, мы можем сразу же сказать, что у гегелевской концепции истории как диалектического процесса есть неисправимый изъян — это телеологическая концепция диалектики, заложенная в структуре гегелевского метода и заключающаяся в понятии Aufhebung[13] (преодоление-сохраняющее-преодоленное-как-внутренне-пережитое-преодоленное), непосредственно выраженное в гегелевской категории отрицания отрицания (негативности). Когда критикуешь гегелевскую философию истории за то, что она телеологическая, за то, что с самого своего зарождения она преследует некую цель (достижение абсолютного Знания), тем самым ты отвергаешь телеологию в философии истории; но когда ты одновременно принимаешь гегелевскую диалектику такой, какой она есть, то странным образом противоречишь сам себе, ибо гегелевская диалектика телеологична в своих структурах — ведь ключевой структурой гегелевской диалектики является отрицание отрицания, принцип, представляющий собой чистую телеологию, будучи при этом идентичен диалектике.
Вот почему вопрос о структурах диалектики — ключевой, главный вопрос во всякой материалистической диалектике. Вот почему Сталина можно назвать проницательным философом-марксистом, по крайней мере в этом аспекте, за то, что он вычеркнул отрицание отрицания из числа «законов» диалектики.
И однако в той степени, повторяю, в той степени, в какой можно абстрагироваться от телеологии в гегелевской концепции истории и в его диалектике, следует признать: Гегель дал нам нечто такое, чего Фейербах в своем увлечении Человеком и Конкретным был абсолютно неспособен понять, — концепцию истории как процесса. Бесспорный факт — и «Капитал» тому свидетельство, — что такой важнейшей философской категорией, как процесс, Маркс обязан Гегелю.
Маркс обязан Гегелю и еще кое-чем, чего Фейербах даже не заметил. Он обязан ему концептом процесса без субъекта. В философских беседах, которые потом иногда превращаются в книги, считается хорошим тоном утверждать, будто история по Гегелю — это «История отчуждения человека». Что бы ни имели мы в виду, мысленно произнося эту формулу, в наших устах она звучит как философское высказывание, беспощадное по смыслу, который без труда распознается если не в самом высказывании, то в его производных. Мы говорим: История есть процесс отчуждения, обладающий субъектом, и субъект этот — Человек.
Но, как справедливо заметил г-н Ипполит, нет ничего менее отвечающего мысли Гегеля, чем эта антропологическая концепция Истории. Да, для Гегеля История — это процесс отчуждения, но Человек не является субъектом этого процесса. В истории по Гегелю речь вообще идет не о Человеке, а о Духе, и, если нам позарез необходимо (хотя в отношении «субъекта» так быть не может), чтобы у Истории был некий «субъект», то тут надо говорить о «народах», а точнее (и здесь мы приближаемся к истине), о неких моментах в развитии Идеи, ставшей Духом. А что из этого следует? Один очень простой вывод, однако, если мы пожелаем его «интерпретировать», он окажется весьма важным с телеологической точки зрения: История — не отчуждение Человека, она — отчуждение Духа, то есть высшая стадия отчуждения Идеи. Для Гегеля процесс отчуждения не «начинается» с Истории (человечества), поскольку сама История — не что иное, как отчуждение Природы, которая, в свою очередь, является отчуждением Логики. Отчуждение, оно же диалектика (в своей глубинной сущности: отрицание отрицания, Aufhebung), или, говоря четче, процесс отчуждения, не является, вопреки утверждению целого направления современной философии, «поправляющего» и «адаптирующего» Гегеля, присущим Истории человечества. С точки зрения истории человечества процесс отчуждения всегда был уже начат. Это выражение, если принимать его всерьез, должно означать, что История у Гегеля мыслится как процесс отчуждения без субъекта, или диалектический процесс без субъекта. Но давайте учтем, что в приведенных мной определениях заключена вся гегелевская телеология — в категориях отчуждения или в том, что является главной структурой категории диалектики (отрицание отрицания), — и постараемся по возможности абстрагироваться от того, что в этих определениях представляет телеологию. И в результате у нас останется следующая формула: История — это процесс без субъекта. Полагаю, я вправе утверждать: эта категория процесса без субъекта, которую, конечно же, следует рассматривать в отрыве от гегелевской телеологии, — самое важное из всего, что Маркс почерпнул у Гегеля в плане теории, самое важное, в чем прослеживается связь между ними.
Я знаю, что в конечном счете у Гегеля этот процесс без субъекта все же обладает неким субъектом. Но это весьма странный субъект, по поводу которого надо сделать ряд важных оговорок: этот субъект — сама телеология процесса, Идея в процессе само-отчуждения, который образовывает ее как Идею.
В выдвинутом мной тезисе о Гегеле нет ничего таинственного, он поддается проверке на каждой минуте, то есть на каждом «моменте» гегелевского процесса. Сказать, что у процесса отчуждения, как в Естественной Истории, так и в Логике, нет субъекта, значит сказать лишь то, что ни в какой «момент» мы не можем определить в качестве субъекта процесса отчуждения какой-либо из известных нам «субъектов»: живое существо (даже человека), народ или некий «момент» процесса, Историю, Природу либо Логику. Единственный субъект процесса отчуждения есть сам этот процесс в своей телеологии. Субъектом нельзя назвать даже и Цель процесса (хотя тут легко ошибиться, ведь Гегель говорит, что Дух — это «становление Субстанции Субъектом»), но лишь процесс как стремление к своей Цели, а значит, сам процесс отчуждения как процесс телеологический.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ленин и философия"
Книги похожие на "Ленин и философия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Луи Альтюссер - Ленин и философия"
Отзывы читателей о книге "Ленин и философия", комментарии и мнения людей о произведении.