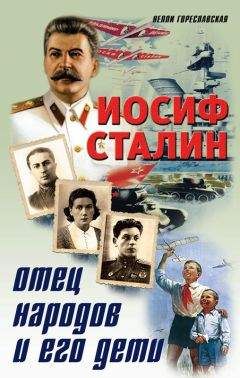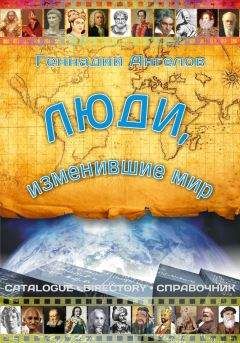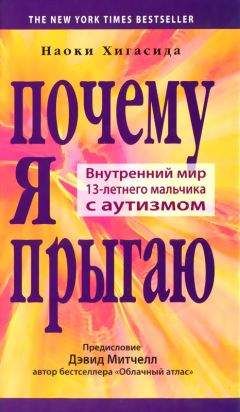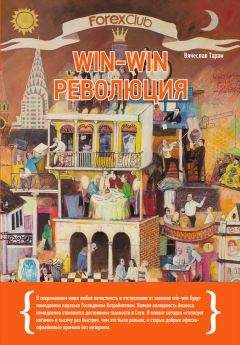Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь в трех эпохах"
Описание и краткое содержание "Жизнь в трех эпохах" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — не мемуары, а зарисовка жизни нашего общества на протяжении 70 лет. Автор, начинавший свою трудовую деятельность в пятнадцатилетием возрасте грузчиком, впоследствии получил международную известность как профессор-историк, преподавал в университетах США и Англии. Со страниц его книги встают образы довоенной Москвы с ее атмосферой страха и энтузиазма, страшные детали войны, картины изменения жизни, быта, психологии наших людей. Много внимания уделено Сталину и сталинизму, Хрущеву, Горбачеву, Ельцину. Автор размышляет о русском национальном характере, взаимоотношениях наций и пытается дать ответ на вопросы: была ли неизбежна гибель Советской власти и почему после ее падения все пошло не так, как люди надеялись…
На эти вопросы отвечает человек неординарной судьбы, живой, наблюдательный, всегда имевший свое «особое мнение» и свой особенный ракурс.
Двойственность проявлялась не столько в мысли, сколько в речи. Человек настолько привыкал к тому, что «положено» говорить то-то и то-то, что делал это автоматически, без всяких затруднений, совершенно безболезненно. Просто никто об этом даже и не задумывался, и никаких серьезных переживаний по поводу лицемерия, пронизывавшего всю жизнь, не могло и быть.
И еще в одном ошибался Оруэлл: он преувеличивал, безмерно преувеличивал степень преданности партийных работников общему делу, степень их искренней ангажированности, их энтузиазма, их готовности беззаветно служить партии, пренебрегая личными интересами. В его книге О’Брайан говорит Уинстону: «Индивид — это всего лишь клеточка. Изношенность клетки — это мощь организма. Разве вы умираете, когда вы отстригаете себе ногти?» Трудно даже представить себе что-либо более чуждое образу мыслей работника советского партийного аппарата, включая кагебешников, этих аналогов О'Брайана. Винтики общего механизма — да, но уж никак не клетки организма, которыми можно пренебречь, никак не ногти, которые отстригают для пользы общего тела (общего дела). Личный интерес, забота о собственном благополучии у партработников, во всяком случае в послесталинскую эпоху, была ничуть не меньшей, чем у западных «буржуев», просто она была неотделима от их работы на партию, на государство, никакого противопоставления, никакой коллизии тут не было. Об идеалах, во имя которых надо чем-то жертвовать, никто не помышлял. В оруэлловском «двоемыслии» слово «одновременно» обманчиво, его нельзя понимать буквально: ведь человек не может в одну и ту же единицу времени придерживаться двух противоположных точек зрения, получилась бы просто шизофрения. На самом деле оруэлловский человек в принципе имел в голове две взаимоисключающих картины окружающего мира и мог по мере необходимости включать их попеременно; включая «позитив», он становился горячим энтузиастом, фанатиком дела партии; включая «негатив», он опускал руки, видя вокруг себя сплошную «липу». У советского аппаратчика не было ни того ни другого, в его голове не было четких, энергичных образов со знаками «плюс» или «минус», он не мог включить ни горячий, ни холодный кран, его вода всегда была тепловатой. Его нельзя было назвать ни пламенным борцом за дело партии, ни ее критиком. Это ленивое равнодушие, эта «размытость» образа мира, неспособность ощущать как подлинный энтузиазм, так и негодование, создавали идеальную атмосферу для торжества перманентного и органического лицемерия. Ты все видишь, понимаешь всю «липу» — и ничего. Как писал Салтыков-Щедрин, «он говорил, и его не тошнило, а мы слушали, и нас тоже не тошнило». Собственно говоря, это было в России еще сто лет тому назад — способность сознавать окружающую мерзость и ничего не делать, чтобы это изменить. Опять цитируя Щедрина, «все у нас воруют и все при этом, хохоча, приговаривают: «Ну где еще такое безобразие видано!»
Впоследствии мне доводилось в Америке возражать тем из моих коллег, которые утверждали, что в истории не было более жестокой системы, чем советская. Я говорил, что, вероятно, история знает и более свирепые и кровожадные деспотии, но не знает более лживой и лицемерной. Это, к сожалению, осталось и до сих пор: нашему человеку, будь он бизнесмен или — особенно — государственный чиновник, соврать — раз плюнуть. Здесь уже можно говорить о специфической черте того общественного строя, который именовали социалистическим, оскорбляя тем самым понятие «социализм», исторически имевшее совсем другое значение. Однажды в Восточном Берлине я разговорился с таксистом, рассказавшим мне о порядках в таксопарке и вообще в ГДР — и поразился: все как у нас, один к одному — и это у немцев, с их репутацией честных, работящих, законопослушных людей! Я понял тогда, что социальная система сильнее национальных особенностей, способна нивелировать их. Еще несколько десятилетий, и немцы совсем не отличались бы от советских людей. А недавно я прочел в одной английской книге о гражданской войне в Югославии, что для тамошних политиков, будь это сербы, хорваты или боснийцы, единственно известный вид правды — это ложь. Что ж удивительного — ведь система была та же…
В подобной общественной атмосфере не могло быть места — за редкими исключениями — развитому чувству долга, гражданской ответственности, заботе о сути дела. Один мой знакомый, на многие месяцы прикрепленный к ЦК для выполнения задания, говорил мне: «Главное, что я там понял, — это то, что о деле никто не думает». А думали — о том, как выглядит дело (в глазах начальства, разумеется). Как говорил один цековский чиновник: «Если пишешь бумагу, главное — уметь при этом заранее видеть выражение глаз твоего шефа, когда он будет ее читать; не дай бог, скажет: нет, еще не созрел товарищ». Слово «показуха» (так же трудно переводимое на любой иностранный язык, как и, например, «приписки») наилучшим образом характеризует советскую систему. Главное — чтобы все выглядело так, как должно выглядеть. Социалистическая ориентация развивающихся стран, например: важно не то, действительно ли там строят социализм или нет, а то, что на очередном съезде партии Брежнев мог бы прошамкать: «Товарищи, за отчетный период выросло число стран, встающих под знамя марксизма-ленинизма». Я не хочу при этом «огульно охаять» всех работников того же ЦК; скажем, уже упоминавшийся мной Брутенц искренне болел за порученное ему дело, и я знал немало таких же. Но система все равно оказывалась в конечном счете сильнее, и документ, доходя до самого верха, просто не мог не носить на себе черты «показухи».
Лицемерие и равнодушие к сути дела, естественно, порождали и всеобщий конформизм. Многие порядочные люди, голосуя за то, что они внутренне не могли одобрить, делали это не потому, что боялись ареста (сталинские времена давно миновали), а только ради того, чтобы не быть «белыми воронами». Некоторые удивляются: как могли знаменитые ученые подписывать письмо, клеймившее их старого коллегу Сахарова? Ведь им, академикам, лауреатам государственных премий и героям социалистического труда, ничто не угрожало — ни с работы бы их не сняли, ни дачи бы не отобрали, если бы они просто, без объяснений, отказались поставить свою подпись. Так нет ведь, подписались все, а почему? Именно потому, что боялись стать изгоями, отщепенцами в своей привычной среде; может быть, перед их глазами уже заранее были изумленные лица их многочисленных учеников, аспирантов, коллег-профессоров — «как же мог уважаемый академик так нас всех подвести?». А может быть, на них давил груз всех тех орденов, которые они раз за разом получали из рук Председателя Президиума Верховного Совета, и они считали себя обязанными оправдать доверие партии и правительства? Так или иначе, для того чтобы в такой ситуации сказать «нет», надо было обладать мужеством, необходимым для совершения поступка, а этого-то мужества (именно такого, какое было у самого Сахарова) у них и не было. Это же относится и к известнейшим писателям, коллективно клеймившим Пастернака, а потом Синявского с Даниэлем. Исключения бывали, но это были именно исключения, а правилом был конформизм. Хотелось быть «нашим человеком».
В 1982 году, когда в нашем институте был большой политический скандал (о нем речь впереди), вполне вроде бы приличные и порядочные люди, доктора наук, демократы по убеждениям, самым трусливым и подхалимским образом поддерживали на заседании конкурсной комиссии линию дирекции и парткома, добивавшихся изгнания из института одного из наших коллег, ученик которого оказался за решеткой по обвинению в создании антисоветской организации. Им лично никакие санкции начальства не грозили, но… «партия сказала: надо». Мне потом рассказывали, как кто-то из них, идя домой после этого заседания, сказал другому: «А что же мы нашим женам-то скажем?» Типично для значительной, если даже не преобладающей части российской советской интеллигенции: сделать подлость, а потом: «что скажу?».
Все закономерно: такая система не могла воспитать характер. А конформизм, повальное общественное лицемерие не только не мешали жить, но напротив, помогали подниматься по ступеням карьеры, укреплять личное материальное благополучие, вливаться в ширившиеся ряды «прибарахляющихся», обуржуазивающихся.
Бардак вокруг? Да, конечно, кто же этого не видит, но что делать-то? Диссидентов поддержать — так только хуже будет, власть ведь не постесняется и к репрессиям перейти. А в общем все идет в правильном направлении, все стабильно, голода нет, власть легко добивает последних диссидентов и поэтому, даст бог, станет более терпимой, даже великодушной, надо только не дергаться и постепенно, тихонько совершенствовать, совершенствовать систему (это слово стало для многих ключевым). И в самом деле: система устоялась, отлилась в прочные формы. Все казалось стабильным, непоколебимым. И никто не догадывался, какая хрупкость скрывалась за, казалось бы, мощной железобетонной стеной.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь в трех эпохах"
Книги похожие на "Жизнь в трех эпохах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах"
Отзывы читателей о книге "Жизнь в трех эпохах", комментарии и мнения людей о произведении.