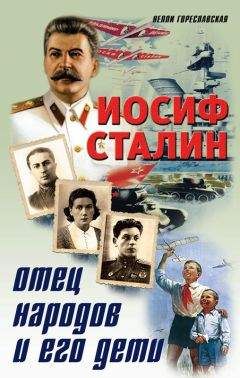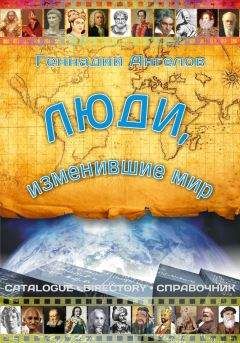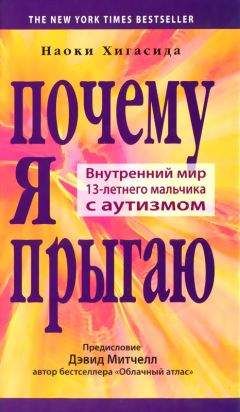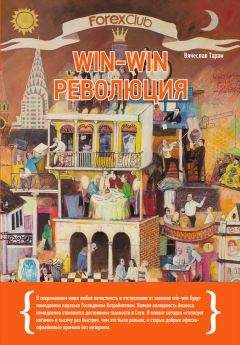Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь в трех эпохах"
Описание и краткое содержание "Жизнь в трех эпохах" читать бесплатно онлайн.
Эта книга — не мемуары, а зарисовка жизни нашего общества на протяжении 70 лет. Автор, начинавший свою трудовую деятельность в пятнадцатилетием возрасте грузчиком, впоследствии получил международную известность как профессор-историк, преподавал в университетах США и Англии. Со страниц его книги встают образы довоенной Москвы с ее атмосферой страха и энтузиазма, страшные детали войны, картины изменения жизни, быта, психологии наших людей. Много внимания уделено Сталину и сталинизму, Хрущеву, Горбачеву, Ельцину. Автор размышляет о русском национальном характере, взаимоотношениях наций и пытается дать ответ на вопросы: была ли неизбежна гибель Советской власти и почему после ее падения все пошло не так, как люди надеялись…
На эти вопросы отвечает человек неординарной судьбы, живой, наблюдательный, всегда имевший свое «особое мнение» и свой особенный ракурс.
При Сталине примитивному нищенскому базису, говоря марксистским языком, соответствовала столь же примитивная идейная надстройка. Страх и энтузиазм исчезли после смерти Сталина и хрущевских разоблачений. Образовался идеологический вакуум; мало кто уже всерьез верил в грядущую победу социализма, а затем, когда стали расширяться внешние связи и десятки тысяч людей стали ездить за границу — вообще исчезла вера в то, что капитализм «загнивает». В обществе происходил двойной процесс — обуржуазивают и деидеологизации.
Вырастало весьма прагматичное, если не сказать циничное, поколение, знавшее, что придется всю жизнь жить при этой бездарной и бестолковой системе и что поэтому надо находить свою нишу и устраиваться как можно удобнее, не забывая при этом умения в любой момент отбарабанить без запинки основные догмы марксистско-ленинского учения.
Будучи профессором МГИМО, я с изумлением наблюдал, как отпрыски советских вельмож откровенно тянулись ко всему американскому, начиная от рок-музыки, слэнга, манеры поведения и кончая «шмотками», как они запросто рассказывали антисоветские анекдоты и слушали песни Галича и Высоцкого.
Страна менялась. Уже в начале 50-х годов городское население превысило деревенское; если в 1939 году на тысячу рабочих приходилось лишь 87 человек с образованием выше начального, то к середине 80-х годов их было уже 861 человек. За это же время более чем в десять раз увеличился процент людей с законченным высшим образованием. Параллельно этому росла и прослойка тех, кто обладал, комфортабельными квартирами, дачами, автомашинами, стереосистемами, видеомагнитофонами, кто ездил за границу, слушал иностранные «голоса» и т. д. Все это вместе взятое приводило к тому, что все большее число людей становилось абсолютно невосприимчивыми к государственной пропаганде, смотрело на нее просто как на правила игры. Теорию никто не принимал всерьез, а практика все более отчетливо демонстрировала несостоятельность системы. Престиж руководства давно испарился; кто мог испытывать уважение, например, к дряхлевшему на глазах Брежневу? Никакого стержня в обществе не осталось — ни веры, ни страха перед террором. И если бы что-нибудь новое, динамичное, способное вдохнуть жизнь в удушливую, застоявшуюся атмосферу лицемерия и двоемыслия, могло появиться — оно было бы встречено передовой частью общества, созревшей для перемен, с распростертыми объятиями.
Именно это и произошло, когда появился Горбачев и началась перестройка.
К этому времени уже произошли важные перемены в идеологической элите. Конечно, номенклатурные работники, занятые в партийном, административном и хозяйственном аппаратах, были поглощены рутинными делами и могли себе позволить вообще не думать об идеологии. Но существовала огромная армия идеологических работников, начиная с сотрудников отделов или секторов идеологии в партийных организациях всех уровней (от ЦК до парткома учреждения или предприятия), включая преподавателей общественных наук, журналистов, лекторов и т. д. Поскольку профессиональная обязанность всех этих людей как раз и состояла в том, чтобы не дать угаснуть факелу коммунистических идей, перемены в данной сфере были весьма показательны. Тезис о мировой революции практически был предан забвению еще при Сталине, а в 50-х годах утвердились концепции мирного сосуществования двух мировых систем. Эвентуальная победа социализма в мировом масштабе официально не подвергалась сомнению, но поскольку неизбежность мировой войны была отвергнута при Хрущеве, центр тяжести был перенесен на экономическое соревнование в соответствии с ленинским положением о том, что решающую роль играет более высокая производительность труда.
Однако уже в 70-х годах стало очевидно, что о превосходстве социалистической системы в этой области нечего и думать; главный козырь всей аргументации был бит. Оставалась «чистая идеология», то есть прокламируемое преимущество социализма в общественном, этическом, моральном плане, идея воспитания «нового человека», преданного идеалу и приверженного уравнительно-коллективистским антисобственническим идеям.
Но реальная жизнь показывала, что советское общество эволюционирует в прямо противоположном направлении. Че Гевара однажды заявил: «Кардинальная цель марксизма состоит в том, чтобы элиминировать частный интерес как психологическую мотивацию». Ничего похожего не происходило: общество потребления, сформировавшееся в Советском Союзе в 60-х годах, было фактически буржуазным по своей глубинной сути и даже более индивидуалистическим, чем на Западе, где в принципе действовали такие ограничители, как уважение к закону и порядку, гражданский долг, чувство ответственности, христианская мораль — то, что полностью отсутствовало в советском обществе. Сугубый индивидуализм, атомизация общества, «приватизация» жизни были заметны уже в период брежневского «застоя»; разрастание теневой экономики, «блата» и коррупции, умение устраиваться по принципу «хочешь жить — умей вертеться» — все это было отдаленным предвестником жизненной практики и морали тех «новых русских», которые вроде бы неожиданно появились в 90-х годах.
Но все это будет еще нескоро. А тогда, в 70-х годах, ни одному человеку и в голову не могла придти мысль о том, что нашей системе жить осталось недолго. Как пелось в одной песне, «у Советской власти сила велика». Да, она была так велика, что власть казалась несокрушимой крепостью. И лишь внешним признаком этой силы была военная мощь, наглядно демонстрировавшаяся на парадах, когда по Красной площади маршировали железные шеренги солдат, ползли танки и ракеты. Здесь-то как раз все было ясно — сильнее нашей армии на свете нет: Гитлера победили — так кто нам может быть страшен? (Правда, с оговоркой насчет возможной ядерной войны, но тут уж дело было не в наших руках, а где-то на небесах. Помню, спрашивали: «Товарищ лектор, вот вы тут говорите, мы слушаем, а может, она уже летит?» И еще — Китай: «А что мы сможем сделать, если сто миллионов китайцев возьмут и перейдут границу?» Приходилось отвечать: «Если сто миллионов — сами понимаете, здесь уж не сделаешь ни-че-го». Получался какой-то обратный эффект, люди смеялись, наступала разрядка.) Но в целом, повторяю, никто и помыслить не мог о военном разгроме системы — разве что вообще все погибнем от атомной бомбы. А гораздо сильнее было другое: понимание, что внутри страны все «схвачено», как теперь говорят, все учтено и все контролируется, власть — она везде и всюду: и на работе, и на улице, и внутри всего общества. Подсознательно это воспринималось как раз навсегда данная реальность, которая не может быть изменена. Это нечто стихийное. Ты живешь в определенном климате, вокруг тебя вот этот ландшафт, ты можешь только уехать, но климат и ландшафт останутся. Точно так же: ты живешь при советском строе, все вокруг тебя советское, разница в том, что уехать, переменить это окружение, как можно переменить климатическую зону, ты не можешь. Тебя не пустят. Живи.
А ведь были, конечно же, были люди, не желавшие с этим примириться. Мне не приходилось встречаться с конкретными диссидентами, но я знал тип таких людей, понимал их. Среди них были разные личности: были идеалисты, герои-мученики, сознательно обрекшие себя на тюрьму и каторгу в надежде, что «не пропадет наш скорбный труд». Но были и закомплексованные, внутренне глубоко советские люди, с болезненным тщеславием и жаждой выделиться из массы, преодолеть свою слабость и доказать свою силу, смелость, непохожесть на других. И те и другие, за исключением таких людей, как, например, Сахаров, являлись людьми тоталитарного склада, плодами советской системы, только с обратным идеологическим знаком, и было ясно, что они могут натворить, если дорвутся до власти.
Подавляющее большинство советских интеллигентов ограничивалось тем, что можно назвать «комнатной фрондой». Они все видели, все понимали, никаких иллюзий не имели, но сознавали, что «лбом стену не пробьешь» и «плетью обуха не перешибешь» (не случайно ведь, что именно у русского народа с давних времен бытуют эти поговорки). Оставалось одно — приспосабливаться, надеяться и в рамках этой постылой системы прожить жизнь как-то более или менее прилично и с толком, произносить все необходимые слова, ни капельки в них не веря, голосовать «как все», но при этом не «вылезая в отличники», чтобы не было противно перед самим собой и семьей. Можно ли это назвать двоемыслием (doublethink) по Оруэллу? Думаю, не совсем. Ведь Оруэлл имел при этом в виду способность придерживаться двух взаимоисключающих мнений, одновременно веря в оба. При Советской власти этого не было, по крайней мере, применительно к подавляющему большинству людей. Практически никто не верил в коммунизм, в возможность создания в обозримом будущем идеального бесклассового общества и осуществления лозунга «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Мало кто верил и в то, что наша система обеспечивает людям лучшую жизнь, чем капитализм, хотя многие все же полагали, что в принципе наш строй является более справедливым. Официальной пропаганде о достижениях социализма не верил почти никто — ведь все видели, что делается в стране. (Парадоксально при этом то, что те же самые люди, которые откровенно высмеивали лживость нашей пропаганды в освещении внутренних дел страны, верили ей, когда дело касалось внешних, международных проблем; моя мать, при всей ее неприязни к власти, всегда считала, что «вокруг все враги, надо быть очень бдительными», и в этом, конечно, сказывались психологические последствия шока, испытанного народом 22 июня 1941 года, когда на нас внезапно напали немцы. Советские люди, не имевшие представления о характере западной демократии, искренне верили, что американский президент в любой момент может без всякого предупреждения бросить на нас атомную бомбу; вспомним тот вопрос после лекции: «а может, она уже летит?».)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь в трех эпохах"
Книги похожие на "Жизнь в трех эпохах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Мирский - Жизнь в трех эпохах"
Отзывы читателей о книге "Жизнь в трех эпохах", комментарии и мнения людей о произведении.