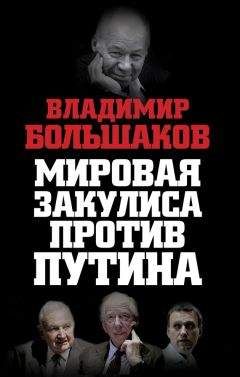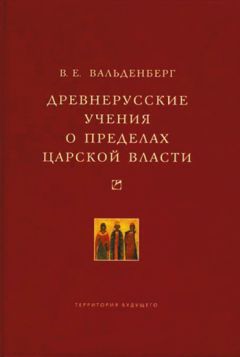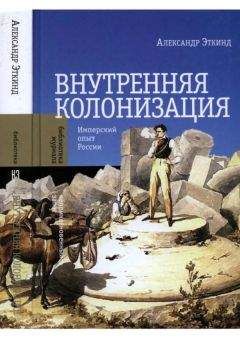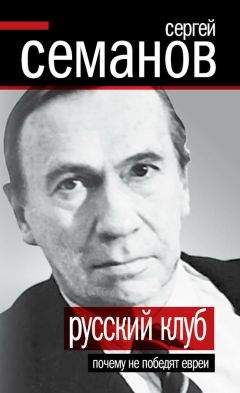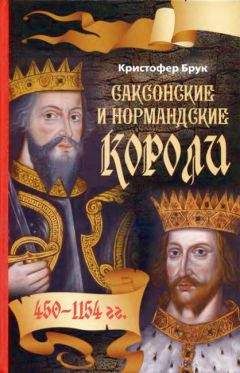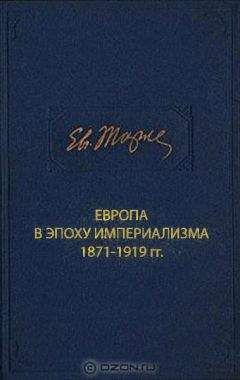Владимир Вальденберг - Древнерусские учения о пределах царской власти
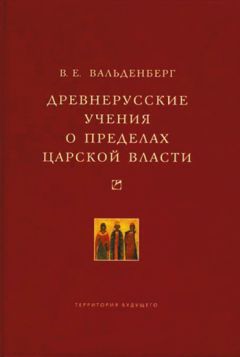
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Древнерусские учения о пределах царской власти"
Описание и краткое содержание "Древнерусские учения о пределах царской власти" читать бесплатно онлайн.
Владимир Евграфович Вальденберг (1871–1940) – историк, один из самых цитируемых в мировой византинистике русских ученых. Родился в Москве, окончил юридический факультет Петербургского университета, защитил диссертацию «Закон и право в философии Гоббса», в дальнейшем занимался изучением проблемы сходства и различия романо-германских и славянских политических понятий. «Древнерусские учения о пределах царской власти» (1916) – одна из самых значительных работ В.Вальденберга, явившаяся едва ли не первой в России монографией на эту тему. По словам академика Н. К. Никольского, эта книга важна и для историков, и для исследователей древнерусской литературы. В. Вальденберг объединил в своих трудах разносторонние знания по византологии, русской истории, славяноведению и западно-европейским доктринам с кропотливым пересмотром и критическим изучением рукописного и печатного наследия древнерусской литературы.
Совершенно другой материал дают для истории политических учений писания современника митр. Илариона – Иакова Черноризца. Сведения наши о нем остаются до сих пор очень скудными; они ограничиваются только летописным известием, что преп. Феодосий Печерский, почувствовав в 1074 г. приближение смерти, нарек Иакова своим преемником на игуменстве[239]. О литературной его деятельности впервые определенно заговорил М. Погодин. Он доказывал принадлежность ему нескольких сочинений и в их числе послания князю Изяславу Ярославичу[240]. Мнение его можно считать упрочившимся в науке только относительно некоторых из этих сочинений[241]; что же касается послания, то как об авторе его, так и о том, к кому оно обращено, в литературе есть разногласие. Для истории же политических учений именно оно представляет некоторый интерес, и потому оказывается нужным на этом разногласии несколько остановиться. Арх. Филарет и преосв. Макарий, напечатавший послание во 2-м томе своей «Истории русской церкви», вполне примыкают к мнению Погодина[242]; но Е. Голубинский и Н. Никольский находят, что нет никаких оснований утверждать, что послание принадлежит именно Иакову Черноризцу, и ничем не доказано, что оно написано в. к. Изяславу[243]. Однако, со своей стороны, они не выставили никакого предположения, кого следовало бы считать автором послания, и кому оно было адресовано. Между тем во всех известных списках послания говорится, что оно написано «от многогрешного чернеца Иакова», а Голубинский даже признает, что послание по языку очень древнее[244]; поэтому, если отрицать авторство Иакова Черноризца, нужно отыскать в ту же приблизительно эпоху какого-нибудь другого чернеца Иакова, которому можно было бы приписать это послание. Но второго чернеца Иакова, о литературной деятельности которого можно было бы говорить хотя с некоторым основанием, мы не знаем. Следовательно, остается, несмотря на высказанные сомнения, автором послания считать не кого другого, как именно Иакова Черноризца. В большинстве списков послание обращено «к Божию слузе к великому князю Димитрию»[245], а известно, что Изяслав Ярославич носил христианское имя Димитрия; отсюда – мнение Погодина, Филарета и Макария. Что можно возразить против этого? Голубинский говорит: «Чтобы послание писано было к князю, признаков этого в нем нет, и скорее есть основание думать противное»[246]. Но почему таким признаком он не считает приведенные слова, и какое есть основание для противного мнения, он не объясняет. В содержании послания нет ровно ничего такого, чего нельзя было бы поместить в послании к князю; наоборот, как увидим, в нем есть одно место, которое лучше всего объясняется, если предположить, что оно обращено к князю. А если принять в расчет, что Иаков был духовный отец Изяслава[247], то станет вполне понятно, почему он именно к нему обратился с посланием такого содержания.
Большинство исследователей, занимавшихся этим памятником, характеризуют его как сочинение нравственного содержания, в котором автор предостерегает от пьянства, блуда, учит терпению, любви к ближним и т. д.[248] Такая характеристика правильно подмечает общий дух, общее направление послания; но вполне охватывает она только первую (большую по своему размеру) его часть. Во второй же части послания есть место, к которому эта характеристика не подойдет – оно имеет совершенно другое содержание. В списке, по которому послание было напечатано преосв. Макарием, место это несколько испорчено, а в сборнике XVI в. Имп. Публ. Библ. № 1294 (Погод.) оно читается так:
… Сего деля Павел велит присно въоруженым быти. Милостивии бо помиловани будут, милость на суде лишше при всем хвалима и смерти избавляет. Сеяй щадя, щадя и пожнет, рече Павел: и все вашею любовию да бывает. И се ти буди оуказ: Еффаа князя единородная дщи и оубогие вдовы две медницы; не веде, равно ли будет, кому то принесени быша. Правила своего не остави противу силы. Се же бы добро в тайне. Девица бо хранима любима есть внешними; аще ли исходит, не всем оугодна есть, от онех судима. Буди, аки пчела, извъну нося цветы, а внутрь соты делая, да не дым в солнца место приимеши; и не рцы, что зло творя; еще бы се не оугодно Богу, не попустил бы. Самовластье дал есть человеку нераскаянен дар Его. Но терпит и идолом служащим и отметающимся Его, и еретиком, и дияволу, или готово имеа ицеление покаяние. И будеши часто обращался, еже не оугодно Богу. А без вести оутрений день, а глаголю и днешний, и несмы тому властели; и никто же весть о себе в тайных Божиих судех, да вси трепещем о своих деяниих. Позорище бо есмы аггелом и человеком. И аггели знаменают на всяк день, кто что предложит. И ты вник в сердце си, и пройди мыслию всю тварь, и рассмотри торг человека житиа како ся расходит по писаному, все стеня немощнее. И зри Господа с небес оуже на суд грядуща человечьским тайнам и въздати всем по делом»[249].
Уже при первом чтении этих строк должно быть ясно каждому, что это не общее рассуждение на тему о необходимости воздержания, что составляет предмет первой части послания. Здесь речь о другом. Иаков говорит здесь о справедливости и милосердии, о необходимости соблюдать установленные правила закона и о том, как строгое исполнение закона может быть соединено с заповедью любви. Приведенные им примеры лучше всего объясняют его мысль. Израильский вождь Иеффай дал обет: если Бог дарует ему победу над аммонитянами, принести в жертву Ему то, что выйдет к Иеффаю навстречу при возвращении с войны. Победа была одержана, а когда Иеффай приближался к дому, первой, кто вышел к нему на встречу, была его любимая дочь. Иеффай стал было колебаться в исполнении обета, движимый чувством любви, но дочь сама поддержала его, и обет был исполнен (Судей, гл. и). Таким образом, заповедь любви к ближнему отступила перед строгим исполнением установленного Иеффаем правила. Убогая вдова положила в сокровищницу две лепты, что составляло все ее пропитание (Мрк. XI, 41–44). Автор послания не уверен, что оба его примера вполне однородны («не веде, равно ли будет»). Они, и действительно, не совсем похожи один на другой, но идея их одна и та же. Евангельская вдова, как и Иеффай, принесла Богу то, что у нее было самого дорогого; и она сочла нужным принести в жертву естественное чувство привязанности ради соблюдения того, что она считала священным для себя правилом. Итак, по взгляду автора, соблюдение установленного правила или, иначе говоря, справедливость стоит выше чувства любви и не должна перед ней отступать. Тем более, конечно, не должна она отступать перед соображениями и силами, не имеющими нравственного характера. Эту мысль и старается внушить Иаков в. к. Изяславу: «Правила своего не остави противу силы»[250], —говорит он. Иначе: в исполнении закона не отступай ни перед какими препятствиями, идея закона должна быть для тебя священна, и ты должен быть строгим исполнителем его. Но здесь возникает сомнение: может ли человек взять на свою ответственность все последствия такого строгого, неумолимого исполнения буквы им самим изданного закона – исполнения, не допускающего никакого снисхождения к слабостям ближнего, никакого милосердия? Иаков, не колеблясь, отвечает утвердительно. Если бы Богу это было не угодно, Он не допустил бы такого «самовластья»; но Он дал человеку это самовластье как Свой «нераскаянен дар», и уже не вмешивается в действия человека, но предоставляет ему пользоваться данной ему свободой по своему усмотрению. Бог, говорит Иаков, терпит и еретиков, и идолопоклонников; Он тем более отнесется терпеливо к проявлениям свободы, если она поставила себя в рамки закона. «И будеши часто обращаяся, еже не оугодно Богу» – значит, по всей вероятности, если ты не будешь крепко держаться правил закона, то ты неизбежно будешь проявлять колебания в своей деятельности, в совершенно одинаковых обстоятельствах будешь поступать различно, следовательно, будешь показывать чистый произвол, а это Богу не угодно. Чтобы стать выше закона и взять на себя в том или другом случае отступление от него, нужно знать с достоверностью, что будет последствием каждого нашего поступка. А мы, говорит Иаков, не знаем даже того, что произойдет сегодня. Остается поэтому не отступать от своего правила и потом ждать последнего суда Божия.
Но какое отношение ко всему этому имеет милосердие? Иаков с него начинает свое рассуждение. Он приводит заповедь блаженства, говорящую о милостивых, приводит и текст из 2 Кор. гл. д, 6, где ап. Павел советует не скупиться на дела любви (сеяй щадя, щадя и пожнет), чтобы получить полную награду. И вслед за этим идет его мысль о строгом исполнении правил. По всей видимости, это нужно понимать так: должно строго держаться установленного закона, но само содержание закона должно быть продиктовано милосердием, чувством любви и снисходительности. Ведь и Иеффай, поступок которого должен служить примером для Изяслава, составил свое правило, желая победы израильскому народу, т. е. из любви к нему, а затем принес свою дочь в жертву потому, что любил Бога и свой народ больше, чем дочь. Иаков обобщает это и требует, чтобы всякое проявление милости было поставлено в рамки закона; иначе под видом милости будет господствовать своеволие.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Древнерусские учения о пределах царской власти"
Книги похожие на "Древнерусские учения о пределах царской власти" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Вальденберг - Древнерусские учения о пределах царской власти"
Отзывы читателей о книге "Древнерусские учения о пределах царской власти", комментарии и мнения людей о произведении.