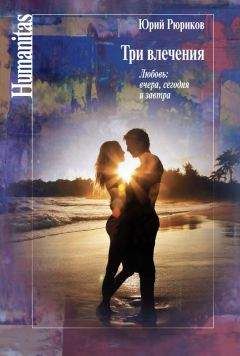Юрий Дмитриев - Русские трагики конца XIX — начала XX вв.
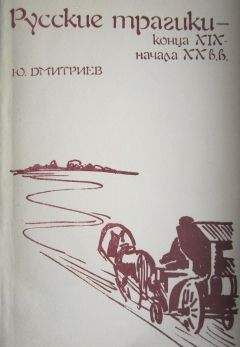
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Русские трагики конца XIX — начала XX вв."
Описание и краткое содержание "Русские трагики конца XIX — начала XX вв." читать бесплатно онлайн.
Серия очерков рассказывает о выдающихся актерах — русских трагиках: Анатолии Любском, братьях Роберте и Рафаиле Адельгейм, Мамонте Дальском, Павле Самойлове и Николае Россове. Автор привлекает интереснейший, малоизвестный материал о знаменитых гастролерах, людях особой судьбы, которые высоко несли художническую миссию актера, просветительские идеи в самые глухие уголки русской дореволюционной провинции.
В 1893 году Дальский умудрился опоздать к началу театрального сезона, и его оштрафовали на 61 рубль 21 копейку.
Бывший в те годы директором И. А. Всеволожский — типичный, барин-меценат, не любивший себя волновать, к проступкам Дальского (тем более что спектакли с его участием делали сборы) относился спустя рукава. Но в 1898 году в директорское кресло сел князь С. М. Волконский, человек не столько жесткий, сколько взбалмошный, и он решил вести борьбу за упрочение дисциплины, делая это с редкой бестактностью.
Новому директору Дальский подал записку о реорганизации императорских театров, с тем чтобы актеры принимали более активное участие в руководстве творческим процессом. Подобные идеи тогда широко дебатировались в печати. Но в условиях самодержавия всякая попытка утвердить самоуправление рассматривалась как крамола.
В ответ на записку главный режиссер Александринского театра Е. П. Карпов, по указанию директора, собрал труппу и заявил, что «истинное служение искусству в точном и неуклонном исполнении своих служебных обязанностей каждым из служащих театра». Хода записке не дали.
10 мая 1900 года Дальского вызвали в театральную контору и предложили подать прошение об отставке с 7 июня того же года. По правилам тот, кто проработал в Александринском театре не менее десяти лет, сохранял право именоваться артистом императорских театров. В условиях провинциальных гастролей такое звание могло украсить афишу.
Уйдя из Александринки, Дальский стал актером-гастролером, его попытки встать в Петербурге во главе собственного театра успеха не имели.
В 1902 году Савина предлагала Дальскому вернуться в театр, писала, что его примут, как блудного сына. В свою очередь попытку вернуть Дальского на казенную сцену предпринял назначенный в 1901 году директором Императорских театров В. А. Теляковский.
Хотел видеть его в своей труппе владелец киевского драматического театра Н. Н. Соловцов, предлагал хорошие условия. Но Дальский ему ответил: «Я не захотел служить у Николая II и я буду служить у Николая Соловцова?! Нет! Никогда!»
В 1902 году Дальский оказался в Екатеринбурге, и здесь проигрался в карты. Долг за него заплатил антрепренер, но с условием, что Дальский вступит в его труппу и останется в ней протяжении целого сезона. Пришлось согласиться. Здесь была сыграна роль Константина в пьесе «Дети Ванюшина» С. А. Найденова.
В тот сезон Дальского увидел Н. В. Петров, в будущем выдающийся советский режиссер. Он рассказывал: «Дальский coвершил переворот в нашем сознании. Он заставил нас, молодежь, полюбить «пиджаки», полюбить жизнь без театральных атрибутов, полюбить простые человеческие чувства, а не чувства на котурнах. Он приучил нас не только чувствовать в театре, но и мыслить. И его классические образы далекой истории были любимы нами не только за их взволнованную театральную романтику, но главным образом за их человеческую мысль, за их человеческие чувства. Дальский, этот «гений и беспутство», этот буйный анархист, помог нашему поколению спуститься с облаков театральности и понять, что и на земле очень много интересного, только это интересное нужно уметь увидеть. И, раскрывая глубочайшие тайны человеческой психики в простом обыкновенном человеке в пиджаке, он как бы говорил: «Смотрите, какое богатство вокруг!..»[189]
Наряду с театральными неприятностями не слишком хорошо складывалась и семейная жизнь Дальского. Он женился в Вильно на Т. Г. Григорьевой, видимо, без большой любви, по мальчишескому увлечению, и хотя родилась дочь, вскоре супруги расстались. Когда возник вопрос о разводе, Дальский принял на себя вину в супружеской неверности. Но при признании такой вины святейший синод не давал разрешения на второй брак. А без этого ни одна церковь не соглашалась производить обряда венчания. В царской же России законным признавался только церковный брак. Переехав в Петербург, Дальский сошелся с графиней Н. М. Стенбок-Фермор, и сообразил, что развод оформлен на его псевдоним, второй же брак можно зарегистрировать на фамилию Неелов. Но и второй брак не оказался счастливым.
Конечно, в том, что Дальский ушел из Александринского театра, во многом был повинен он сам, и все же нельзя не прислушаться к мнению журналиста, который в связи с уходом Дальского писал: «Всякое появление г. Дальского на сцене привлекало в театр массу поклонников его дарования, сопровождалось овациями чуть ли не психопатическими […] И вот молодой, умный, сильный талант на полном ходу, что называется, сбит с дороги, должен уйти в провинцию и обречь себя на ремесленное отношение к искусству, от которого, служа в какой угодно чистой антрепризе, все-таки не гарантирован самый добросовестный талант, ибо искусство искусством, а ведь дело коммерческое»[190].
Собственно говоря, гастролировал Дальский и раньше, выступал вместе с Савиной, Комиссаржевской, ездил по городам, собрав собственную труппу, по преимуществу из второстепенных актеров.
Еще служа в Александринском театре, Дальский сделал несколько ролей специально для гастрольных поездок, среди них — Андрей Белугин из пьесы А. Н. Островского и Н. Е. Соловьева «Женитьба Белугина». В этой роли артист был особенно хорош. В ней в полной мере проявлялась страсть и непосредственность его сильной натуры, и это вызывало восторженную реакцию зрительного зала. Известной провинциальной актрисе П. Л. Вульф казалось, что его Белугин Елену покорял не душевной красотой, а «смелой хваткой, мужской силой»[191].
Но большинство критиков оценивали исполнение Дальским Белуглна очень высоко. А. С. Суворин писал: «Трагик ли он, я этого еще не знаю. Но я знаю, что это талант, умеющий чувствовать и передавать выпукло то, что сам чувствует в роли. Без всякого сомнения он выдвинул вперед достоинства пьесы, и поэтому она явилась в особенном блеске»[192].
Андрей Белугин—Дальский входил в комнату, замечал Агишина, целующего руку его жене. И тут же лицо его бледнело, странно округлялось. Он делал движение в сторону жены, от которого становилось жутко. Огромным напряжением воли Белугин сдерживал себя, проводил рукой по лицу и, не отрывая глаз от сидящей пары, точно тень выскальзывал из комнаты. «Публика сидела несколько мгновений, как в столбняке, затем разразилась долго не смолкающими, аплодисментами»[193].
Уже цитированный критик Измайлов (Смоленский), в связи с ролью Белугина, особенно высоко оценивал здоровое начало в игре Дальского в то время, как множество актеров «берет именно болезненным надрывом, нервозным пересолом, неврастеничностью или прямо психопатической окраской роли». «Чувствовалась в его Андрее живая и любящая душа, бездна чувства, бунтующая кровь […]. Порывы трагического чувства он передавал бесконечно ярче и правдивее аффектов, радости. Драматическое в нем несравненно художественнее комического»[194]. Когда в первом акте перед отцом Андрей отстаивал свое право на любовь, «точно электрический ток передавался от актера в зрительный зал. Такое же действие производило его объяснение с Еленой: «Теперь надо мной нельзя смеяться». Измученная душа выворочена и мучается перед забавляющейся чужим чувством барышней. «Несколько творческих мгновений и несколько часов игры, рассчитанной и спокойной, хотя и опытной и умелой. Но секунды пересиливают часы»[195].
В 1915 году Дальский снова появился на гастролях в Петрограде в роли Андрея Белугина. И на этот раз он был страстен и горяч, показывал сложную и кипучую жизнь. Принимали его восторженно.
Из гастрольных ролей следует выделить Уриэля Акосту в трагедии К. Гудкова того же названия. Артист изображал этот персонаж главным образом как мыслителя, отодвигая на задний план любовные сцены. «Там, где Акоста на сцене мыслит, — он дивно хорош, ибо ум артиста сквозит в каждой фразе»[196]. И в то же время артист играл Акосту вдохновенно.
В первом акте Акоста представал как подлинный философ, в нем чувствовалось спокойное сознание своей силы, речь его дышала уверенностью. Монолог «Зажгите факелы» Дальский произносил увлеченно и увлекал слушателей.
В сцене, в которой Акоста рвал и топтал — Библию, он становился воплощением ненависти и презрения к религиозным догматам, в эпизоде с матерью (третье действие) он захватывал своим трагизмом. Слабее проходил пятый акт.
Великолепно был сыгран Кин в Пьесе А. Дюма-отца «Кин, или Гений и беспутство». В этой роли у Дальского было много показной красивости, много искусства, величавости. Ведь он изображал Кина, первого актера Англии, который не только играет, но и преподносит публике свою технику. Вот в пятом акте Кин выступает в роли Гамлета, и все у него умно и эффектно. В монологе «Быть или не быть» каждое слово обдумано и жесты соответствуют словам. Искусным взмахом руки отогнут плащ и распростерт на спинке высокого кресла. Плащ раскинулся, как крылья летучей мыши, как темная ночь над тяжелыми, черными мыслями принца Датского. Еще одна фраза, и с механической четкостью плащ принимает обычное положение.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русские трагики конца XIX — начала XX вв."
Книги похожие на "Русские трагики конца XIX — начала XX вв." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Дмитриев - Русские трагики конца XIX — начала XX вв."
Отзывы читателей о книге "Русские трагики конца XIX — начала XX вв.", комментарии и мнения людей о произведении.