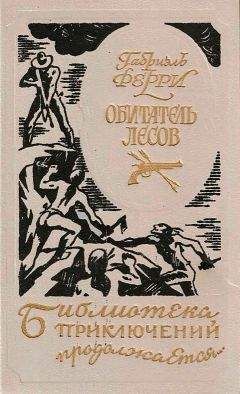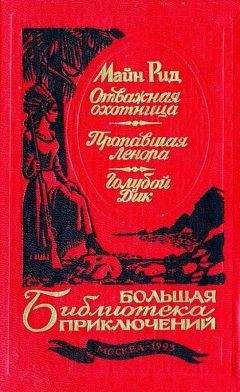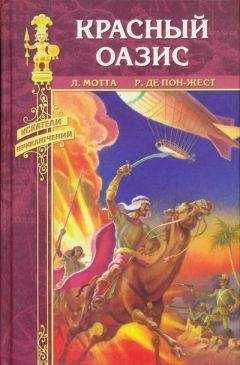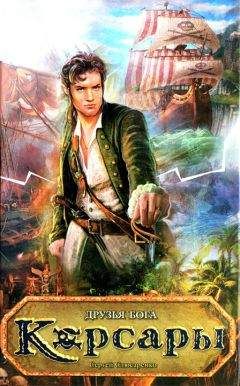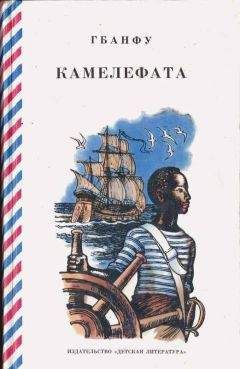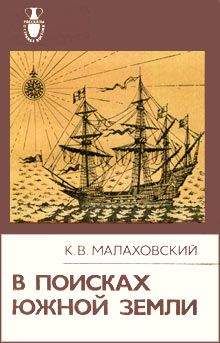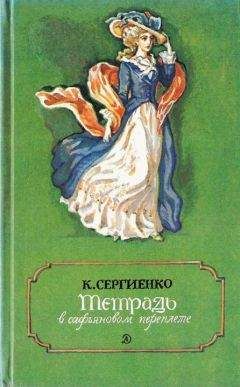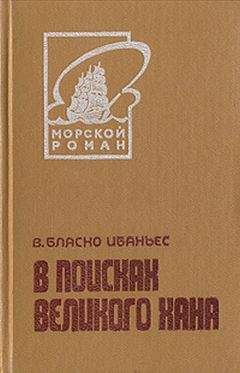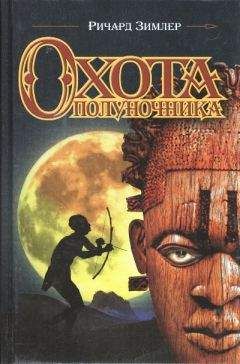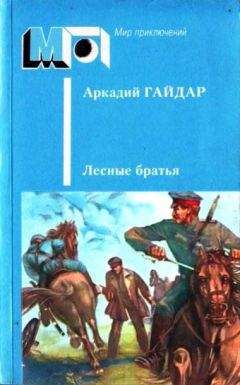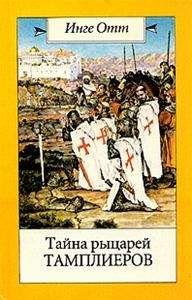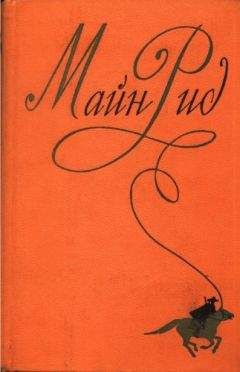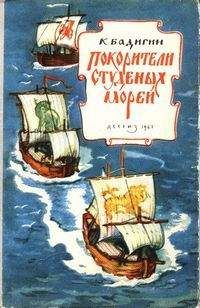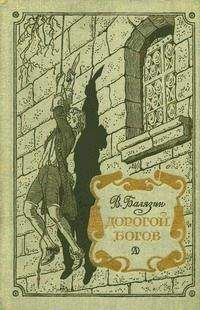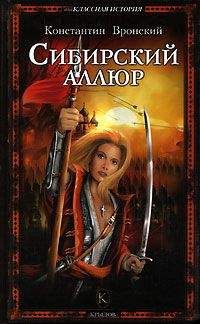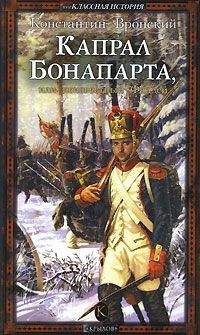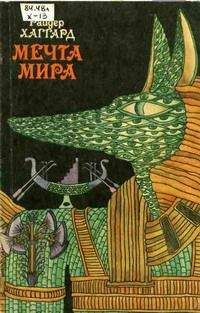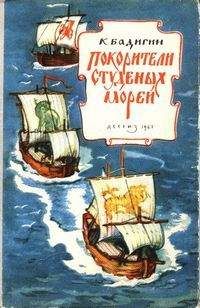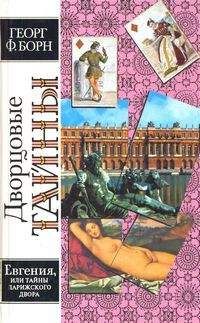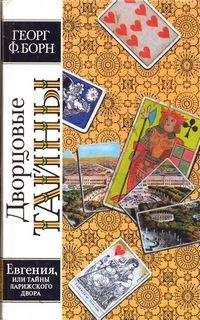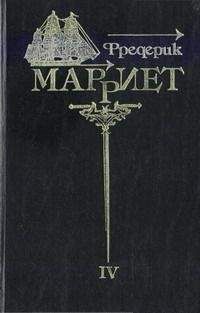Константин Паустовский - Бригантина, 69–70

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Бригантина, 69–70"
Описание и краткое содержание "Бригантина, 69–70" читать бесплатно онлайн.
Ежегодный альманах «Бригантина» знакомит читателя с очерками о путешествиях, поисках, открытиях.
Я был в тундре с фольклорной экспедицией Коми филиала Академии наук СССР. В ее составе кандидат филологических наук Анатолий Константинович Микушев и кандидат исторических наук Любомир Николаевич Жеребцов. Основная задача моих ученых спутников — изучение быта и культуры колвинских ненцев. А также (что было едва ли не главным) поиски и собирание фольклора.
О конечных результатах похода за песней говорить пока рано. Собранный материал требует тщательной камеральной обработки. Но уже сейчас можно сказать, что экспедиция прошла успешно. Исследователи встретились с интересными формами аккультации, то есть слияния двух культур, собрали очень любопытный фольклорный материал.
Как я уже сказал, колвинцы считают себя ненцами, но говорят на коми языке, на его ижемском диалекте. Приемы и методы оленеводства они переняли у ненцев, так как у ненцев они были лучше развиты, чем у коми. Вся оленеводческая терминология тоже сохранена на ненецком языке… Но, скажем, умение обрабатывать пушнину, оленьи шкуры в основном от коми, они были в этом искуснее. Жилище, домашняя утварь, одежда такие же, как и у ижемцев. В хозяйстве колвинцев большую роль, чем у ненцев, играют рыболовство и охота.
Основной итог, основная добыча, что ли, экспедиции — песни.
Удача похода за песнями — это не только удача всей экспедиции, но и большая радость для Анатолия Константиновича Микушева лично. Каждый раз, когда ему удавалось найти хорошего исполнителя, он потом буквально взахлеб рассказывал нам, как колвинский ненец великолепно коверкает коми язык, как он расчудесно обходится с гласными. Далее шли такие тонкости, которые понятны только лингвисту. Однажды мне довелось быть свидетелем беседы Микушева и Анатолия Ивановича Рожина. Рожин — заслуженный учитель Федерации. Добрая половина учителей округа — бывшие питомцы Анатолия Ивановича. С 1932 года он преподает в педучилище. В округе с 1930-го. Обошел, объездил тундру вдоль и поперек. Знает ненецкий досконально. Автор самого первого немецко-русского словаря. Уже много лет дети ненцев во всех трех округах в начальных классах учатся по его учебникам.
Микушев и Рожин говорили об эпических песнях колвинских ненцев. Переходя от поколения к поколению исключительно в устной форме, эпос отчасти утрачивает сюжетную завершенность. Исследователю приходится потратить немало усилий, чтобы расшифровать неясные места и, так сказать, реставрировать песню в целом. В этой работе знаток быта и языка ненцев Рожин оказал Микушеву большую помощь.
Оба лингвисты, люди, любящие свое дело, видимо, даже одержимые им, они говорили так, будто это старые друзья встретились после долгой разлуки. А между тем несколько часов назад они не были знакомы.
Теперь несколько, может быть, необязательных, но, мне кажется, существенных слов об эпосе вообще. Мысль тут не моя, об этом пишет автор сборника «Эпические песни ненцев» Куприянова. Мне же пришлось столкнуться с этим в жизни.
Дело в том, что как это ни печально, но факт — эпос угасает. Все меньше остается людей, которые помнят старые песни. Молодежь их не знает. Это естественно: в тундре сейчас кино, радио, книги. Новые времена — новые песни. Но от этой исторической девальвации ценность народного творчества не уменьшается.
Песни тундры! О чем же поется в них?
Из глубины веков с нами беседуют справедливые герои, побеждающие злых великанов. Мы узнаем о кровной мести, вражде и борьбе древних родов. Насмерть бьется с судьбой покинутый всеми сирота. А вот целая одиссея приключений и страданий маленькой и очень самостоятельной женщины. Вереницы образов проходят перед нами.
Эти песни звучат несколько странно для непривычного уха. Плач старика над старухой:
Продольный шов ушивавшая,
Круглую заплату латавшая,
Суп да кашу варившая,
Куда ты ушла?
Как я буду без тебя?
Я читал этот плач нескольким знакомым. Люди улыбались как-то снисходительно и растроганно: так трогательно, наивно, неожиданно звучит перевод. Скупые, однообразные какие-то слова, а за ними картина жизни женщины. Старик, который явно, мне кажется, любил свою спутницу жизни, даже в момент величайшего горя не может вспомнить ее иначе, как за работой по хозяйству.
«Вкусномолочная матушка» — так обращается дочь к своей умершей матери. От этого ошеломляющего эпитета можно прямые параллели провести к Гомеру. Например: звонкокопытные кони, многошумное море. «Вкусномолочная матушка» — это звучит с не меньшей силой.
В стойбище приезжает незваный, нежеланный гость. Хозяина он встречает сидящим на нартах у входа в чум. Их взгляды встречаются. Они молчат. Как в песне передается длительность этого молчания, враждебность сторон? Одной строчкой: «…Можно котел сварить, пока они молчат». Чеканный такой образ. Представьте, у входа в чум суровый хозяин и не менее суровый гость, которого хозяин даже в жилище к себе не приглашает (и это при ненецком гостеприимстве). Видимо, у этих двоих старые счеты, и никто никогда их не примирит. И вот они меряют друг друга взглядами, и «можно котел сварить, пока они молчат».
А вот к берегу пристает большой корабль. И выходит из него без числа людей. «Сколько людей, будто черный лес», — удивляется героиня. Когда летишь над тундрой, над темными длинными островками леса посреди бескрайней снежной равнины, то смысл этого сравнения становится особенно ясен.
Интересны концовки эпических песен. После долгих приключений, сражений и скитаний герои, наконец, собираются вместе, ставят рядом свои чумы, пируют и вообще живут хорошо. Вот типичная концовка: «Наши чумы стоят рядом. Мы не разъехались. Мы сказали: „Давайте мы, пришедшие из разных земель, жить вместе. Так мы живем“».
Снежная блоха
Я не знаю животного, на которого тяжесть неволи и работа наложили бы такой заметный отпечаток, как на северного оленя. Домашний северный олень — печальный раб своего угрюмого господина, дикий северный олень — гордый властелин горных вершин, живущий там наподобие серны и одаренный благородной красотой, свойственной всем оленям.
БремОдно из ненецких названий оленя в переводе на русский — снежная блоха. Действительно, бегает он очень несолидно, подбрасывая зад.
Олень покорен. Ловят его тынзеем (арканом из оленьей же кожи). Один-единственный сильный рывок, когда тынзей наброшен. Петля от этого только затягивается. Потом олень если и упирается, то несильно. И один человек запросто подтягивает его к себе или подходит к нему, перебирая аркан. Олень уже совсем покорен. Человек может взять его за рога, обхватить за шею. Может запрячь, повалить, спилить рога или просто заколоть.
Когда их сделали домашними, оленей? Может быть, раньше, чем собак?
Дикий олень (илебць) по-ненецки означает «средство к жизни». Действительно, ни одно животное на земле не дает человеку для жизни столько, сколько дает олень.
Мы сидим в чуме, пьем чай. Покрывала чума — нюки — сделаны из оленьих шкур. Мы сидим на шкурах, под шкурой снег, а нам не холодно. Если бы оленеводы не дали мне вчера в дорогу оленьей шубы — совика, в который я влез, как в берлогу, и цельнокроеных оленьих сапог выше колена — тобоков, то в своем полушубке и валенках я окоченел бы на первом десятке километров, Ехали мы сюда на оленях.
Хозяин чума в первую очередь приветствовал меня, чужака: «Айбурдать будешь, чай пить будешь!»
И вот мы «айбурдаем». Строгаем от большого куска сырой оленины. Мясо тает во рту. «Может, крови оленьей хочешь?» — предлагает хозяин. Вежливо отказываюсь.
Жителю средней полосы да и северянину — жителю города эта трапеза покажется невероятной.
А между тем здесь нет ничего невероятного, просто необходимость и традиция. В кочевых условиях, зимой, когда олений обоз, скажем, часов восемь подряд движется по тундре и когда на нарты укладывают лишь самое необходимое, оставляя ненужные вещи на месте стоянки до возвращения, — в этих условиях нет никакой возможности сохранить от лютого мороза овощи, лук или чеснок. Все замерзает и в пищу уже не пригодно. А витамины нужны. Без них — цинга, другие болезни, без них — смерть. И вот тут-то на помощь человеку приходит сырое мясо, свежая оленья кровь — обычная пища оленевода. Если вы читали «Путь на Грумант» Бадигина, то помните, какая жуткая участь постигла одного из зимовщиков только оттого, что он отказался есть сырое мясо.
Разумеется, в поселках, на базах оседлости, там, где есть хорошие магазины, пища ненцев ничем не отличается от обычной. Кочующие со стадами бригады — совершенно другое дело.
Впрочем, перед тем как лечь спать, мы съели по громадному куску отлично сваренной оленины, запили ее бульоном.
На большом столе с крохотными подпиленными ножками, иначе в чуме он не уместится, гора пряников, конфет, печенья, банки сгущенного молока и кофе.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бригантина, 69–70"
Книги похожие на "Бригантина, 69–70" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Константин Паустовский - Бригантина, 69–70"
Отзывы читателей о книге "Бригантина, 69–70", комментарии и мнения людей о произведении.