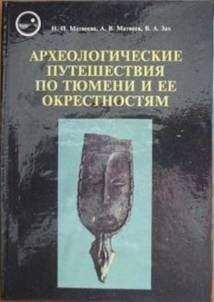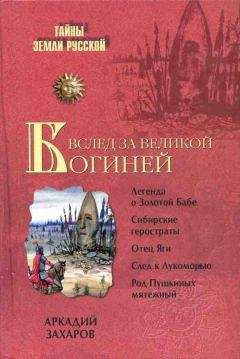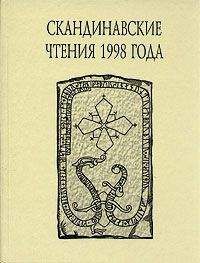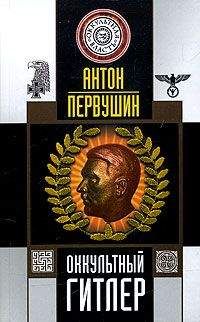Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Описание и краткое содержание "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать бесплатно онлайн.
Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, автора уже изданного в «НЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры — иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген — предстают в книге продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и эксплуатации.
Хотя и казавшиеся довольно сонными по сравнению с быстро меняющимся Югом, заполярные регионы Российской империи не были полностью изолированы от новых тенденций экономического и политического развития. Бродячие инородцы сдавали свои рыболовные угодья в аренду крупным судовладельцам; уступали свои охотничьи угодья на Лене, Енисее и Байкале золотоискателям; меняли маршруты своих кочевок, чтобы обойти стороной новые поселения{397}. Там, куда российские подданные не могли или не хотели добраться, было кому занять их место. Разрастающееся китайское население Северной Маньчжурии доминировало в торговле на Амуре, американские китобои и торговцы стали важнейшими торговыми партнерами чукчей, а итогом Портсмутского мирного договора 1905 г. стал переход Южного Сахалина к Японии и фактический контроль японцев над рыболовством в Охотском море{398}.
Не все перемены вызывались действиями русских и их конкурентов из великих держав. На северо-западе большие стада ненецких оленеводов оказались во владении коми, на северо-востоке многие тунгусы и юкагиры перешли на якутский язык, а на Таймырском полуострове российские чиновники обособили четыре говорящих по-якутски тунгусских рода в особый народ — долган (само это население сохраняло родовую самоидентификацию и не имело общего самоназвания){399}.[48] Но, как и прежде, наиболее глубокие экономические и социальные последствия вызывало внешнее влияние. Болезни, внедрение новых технологий, уничтожение лесов, истребление животных и административное давление вынуждали большие массы людей мигрировать в новые районы или модифицировать свою хозяйственную деятельность{400}. Некоторых ясачных людей переселили насильственно, чтобы они обслуживали почтовые тракты; некоторым таежным охотникам пришлось перейти к оленеводству; некоторые собиратели вынуждены были стать ямщиками, проводниками или торговцами; а от некоторых традиционных методов рыболовства и охоты пришлось отказаться, поскольку российские чиновники считали их варварскими{401}. В той или иной мере все бывшие «иноземцы» освоили новые умения и приобрели новые жилища, орудия труда и одежду. Социальный статус все в большей степени ассоциировался с обладанием привозными промышленными товарами; охотничья удача зависела от доступности огнестрельного оружия (равно как от помощи иконы Николая Чудотворца); а русская медицина славилась колдовской силой{402}. («Русский бог сильнее гиляцкого, значит, и русский шаман сильнее гиляцкого», — говорили Штернбергу его друзья-гиляки о врачах{403}.)
Миграции, эпидемии и новые хозяйственные занятия влияли на величину и состав туземных сообществ. Зараженных сифилисом коряков избегали и считали неприемлемыми партнерами для брачных союзов; угорские общины начали принимать русских, а некоторые тунгусские охотничьи отряды могли включать членов разных родов{404}. Фиктивные родовые группы, учрежденные российскими властями в фискальных целях, могли стать реальностью, поскольку их члены сообща платили дань, строили дороги и доставляли почту. Увешанные медалями «князцы», поддерживаемые администрацией и осмеиваемые путешественниками, предпочитавшими «неиспорченных» туземцев, могли успешно использовать связи с русскими в политических целях{405}. Знание русского языка могло стать важным критерием компетентности в сфере обычного права, а обращение к российской полиции — важным фактором в решении местных споров{406}.
Когда правительство побуждало инородцев сохранять владение своими землями, понятие земли и характер владения могли интерпретироваться по-разному, но окончательное решение выносило правительство, и некоторые таежные сообщества считались с этим. На Амуре, к примеру, большие нанайские роды начали ставить специальные знаки, чтобы обозначить «свои земли» в районах, где до 1880-х годов мог охотиться кто угодно{407}. Более значимой (но реже обсуждавшейся) правительственной политикой было предоставление прав и обязанностей «инородца» лишь половине коренного населения. В то время как российские путешественники ужасались униженному положению женщины в туземных сообществах, имперская данническая система продолжала углублять неравноправие. Дань платили только мужчины, поэтому для Российского государства юридически существовали только мужчины: если убивали туземного мужчину и туземную женщину, администрацию прежде всего беспокоило первое{408}. Даже в тех регионах, где женщины работали по найму (на засолке рыбы, дублении кож или в проституции) или где под влиянием миссионеров девочек отдавали в школу, ничто не могло сравниться с универсальной и свято исполнявшейся обязанностью платить дань.
Перемены в сфере торговли были наиболее заметными для сторонних наблюдателей. Как подчеркивал И.М. Ядринцев, величайший защитник «прав инородцев», «инородец… искусился… Прежние воззрения изменились, старая честность и доверие исчезли… Племена, обладавшие свойствами непосредственной, безукоризненной нравственности, потеряли свою детскую чистоту и явились ныне деморализованными»{409}.
Многие коренные северяне действительно приспособились к новым условиям торговли и изменили традиционные формы обмена. Пастухи-оленевода часто отказывались показывать свои стада русским. (По наблюдению П. Третьякова, авамские самоеда (нганасаны) были ужасающими «скрягами» по отношению к русским, но не по отношению друг к другу{410}.) Некоторые охотники стали брать в кредит у чужих «друзей», и одна группа удэгейцев якобы «старалась набрать в кредит как можно больше, в расчете, что кредитор, опасаясь совсем потерять долг, согласится на уступки и сделает скидку»{411}. Порой такая тактика оказывалась успешной, и, согласно И. Гондатга, «некоторые из торговцев и промышленников, видя, что промыслы все более и более падают, что инородцы стали обманывать не хуже, чем их прежде обманывали, готовы были прекратить все торговые сношения с ними и заняться только рыбопромышленностью, но боязнь окончательно потерять тогда все долги удерживает их от этого и заставляет… продолжать оставаться опекунами над местным населением»{412}.
Некоторые коренные жители Севера действительно могли диктовать свои условия русским торговцам и путешественникам. Коряки, например, часто были единственными поставщиками продуктов и транспортных средств для путешественников на Камчатку, и многие из них так искусно пользовались этой монополией, что Питер Добелл назвал их «вероломными мошенниками», «злодеями» и «самыми жадными варварами, которых я когда-либо видел»{413}. «Действительно… они всегда прикидываются голодными, чтобы обмануть путешественников и вынудить их платить по самой дорогой цене. Стоит кому-нибудь возразить против их условий, как они ссорятся с ним и даже бьют или режут его своими ножами, если он будет безоружным и не способным защитить себя»{414}. Другие присоединялись к уже сложившимся торговым маршрутам или налаживали собственные прибыльные торговые сети, как те тунгусы, которые оказались вовлеченными в торговлю между Аяном и Якутском (доставляя товары с иностранных судов в Якутск), или те, которые ездили из Аяна в Уду, чтобы продавать свою пушнину даурам{415}. Наконец, появились предприниматели, которые покупали товары у русских и перепродавали их с наценкой своим сородичам{416}.
И все же никто не достиг столь впечатляющих успехов в деловых отношениях с внешним миром, как чукчи. Основываясь на Уставе об управлении инородцев, Свод законов Российской империи 1857 г. определял их как «инородцев несовершенно зависящих», которые «платят ясак по собственному их произволу, как в количестве, так и в качестве»{417}, и хотя из последующих изданий Свода законов эта категория была исключена, чукчи оставались полностью независимыми. Русское присутствие на Чукотке было минимальным, и все попытки организовать чукчей в административные единицы и заставить платить дань закончились провалом. В 1860-е годы барон Майдель, чиновник с Колымы «с чрезвычайными полномочиями», воспользовался заинтересованностью чукчей в Анюйской ярмарочной торговле и запретил «чукотские подарки», т.е. товары, которые давали чукчам в обмен на ясак. Ясак превратился из предмета торговли в налог на право торговать: чукчи, которые не приезжали на ярмарку, ничего не платили. Кроме того, Майдель ввел должность «верховного вождя всех чукоч», которого иногда называли чукотским царем, и попытался поднять авторитет «князьцов» (родовых вождей){418}. Эти реформы, которые предпринимались «в старании привести их [чукчей] к присяге на верноподданство»{419}, не пережили своего инициатора. Родовые кланы существовали только на бумаге, а «князыды» были влиятельными владельцами оленьих табунов и могли легко лишиться своих оленей, а вместе с ними — и влияния, и «сородичей». Один из них рассказывал В.Г. Богоразу: «Я теперь тоён [вождь] и имею этот кортик и пачку бумаг как знаки моего достоинства. Но куда же девался мой род? Я не могу отыскать никого»{420}. Наследник чукотского престола унаследовал малиновый кафтан и медали своего отца, но не унаследовал его авторитет, так что преемники Майделя отказались от использования титула и забыли о претенденте. К 1910 г. местные чиновники заключили, что «чукчи не образуют общин и не имеют начальников, и все попытки русской администрации создать у них старшин и старост кончались неудачей»{421}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Книги похожие на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Отзывы читателей о книге "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера", комментарии и мнения людей о произведении.