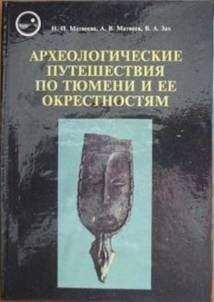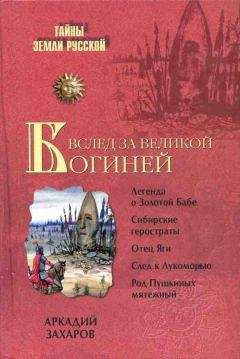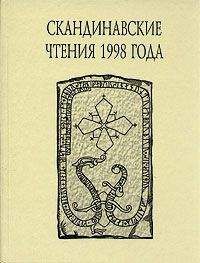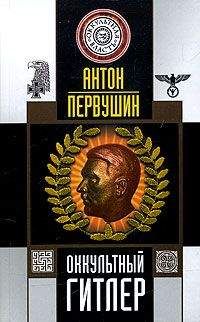Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Описание и краткое содержание "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать бесплатно онлайн.
Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, автора уже изданного в «НЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры — иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген — предстают в книге продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и эксплуатации.
Помимо поддержания внутреннего порядка и передачи сородичам распоряжений верховной власти, старосты несли ответственность за распределение, сбор и доставку дани и земских сборов, причем каждый род считался «одним нераздельным лицом»{346}. Российские чиновники должны были, насколько возможно, содействовать им в выполнении этих задач, принимая оплату на ярмарках или посылая специальных представителей в отдаленные стойбища. Устав настаивал на обязательной выдаче расписок и даже предлагал специальные символы, которые могли бы использовать неграмотные инородцы. Контакты между русскими и туземными администраторами должны были сводиться к минимуму, и чем меньше подвод или саней использовали приезжие чиновники, тем лучше; бродячих инородцев не следовало навещать более одного раза в год. Российским чиновникам запрещалось торговать с инородцами вверенных им губерний, а выезды сборщиков дани допускались лишь в тех случаях, если старейшинам трудно было самим приехать в правление или если недоимки превышали дань за два года{347}.
Купцам, с другой стороны, предоставлялась значительная свобода действий. Кроме горячительных напитков, все необходимые инородцам товары можно было продавать им в любое время и без каких-либо ограничений, предпочтительно на ярмарках{348}. (Внешняя торговля исключалась: в 1820 г. прибыльная тихоокеанская коммерция была запрещена под давлением Русско-американской компании и кяхтинского купечества{349}). Местная полиция должна была пресекать всевозможные злоупотребления, в том числе свои собственные{350}. Как писал Сперанский перед публикацией Устава,
в Сибири относительно торговой с инородцами существовали до 1819 года две системы. Одну из них можно назвать запретительною, другую свободною. Запретительную систему вводили и при удобных случаях старались укоренить разные чиновники полицейского управления. Системы свободной всегда просили… купечество, вообще промышленники, и сами инородцы. Полиция представляла, что торговцы и промышленники обманывают инородцев, пользуясь их незнанием цены…; что инородцы не умеют защищаться против притеснений частных людей; что при свободе торговли нельзя усмотреть, соблюдается ли определенное в законе запрещение ввозить к инородцам горячие напитки, нельзя ожидать, чтоб инородцы платили в казну ясак исправно, зверями окладными и лучшей доброты, и наконец нельзя продавать инородцам хлеб с выгодою для казны….Против сих предлогов местной полиции торговцы и промышленники представляли, что ограничения в торговле с инородцами могли быть допускаемы прежде, но не ныне, когда число торгующих уже не малое и следовательно есть соревнование; что причины, побуждающие чиновников полицейских настоять о запрещении, суть выгоды не казенные, но их собственные…; и что наконец установленная сими чиновниками выдача билетов частным лицам на проезд в кочевья инородческие для торговли есть не что иное, как собственный их корыстолюбивый расчет. Инородцы с своей стороны жаловались на разорения, торговлею чиновников им причиняемые, жаловались на продажу непомерными ценами вещей необходимых, на несправедливость донесения полиции относительно платежа ясака и проч.{351}
Сперанский не доверял ни одной из сторон, но питал безграничную веру в свободный рынок, который «всякое влияние местного Начальства делает излишним и бесполезным»{352}. Единственной обязанностью, возложенной на полицию, было удостовериться, «чтоб движение торговли и мены… было совершенно свободно; чтоб стечение покупщиков было сколь возможно более; чтоб взнос податей не был вынуждаем при самом начале ярмарки»{353}. На случай, если свободный рынок или охотничья удача покинут инородцев, имелись государственные магазины, чьей функцией было держать цены на минимальном уровне и обеспечивать экстренные запасы хлеба, соли, пороха и дроби{354}. Наконец, инородцам предоставлялось право полной свободы вероисповедания. Православному духовенству предлагалось распространять христианство «одними лишь убеждениями без малейших принуждений» и не преследовать тех туземных христиан, которые «окажутся по невежеству в упущении церковных обрядов»{355}.
Важнейшей чертой этого документа было особое внимание к постепенному и добровольному характеру перемен. Авторы ожидали прогресса и просвещения в различных сферах, но их целью как законодателей было соблюсти верность «возрасту», в котором они застали туземные народы. Все насильственные нарушения естественного равновесия рассматривались как непродуктивные, причем введение свободной торговли, очевидно, воспринималось как возвращение к естественному состоянию. Для народов, охваченных действием Устава, это означало практически полную культурную и административную автономию: православное духовенство, которое должно было обеспечить их будущее спасение, и местные государственные чиновники, перед которыми несли ответственность туземные старосты, получили наставления ограничиваться самым общим руководством и воздерживаться от вмешательства в дела рода.
Прежде чем начать выполнять свои обязанности, местные государственные чиновники должны были выполнить основные требования Устава. Самая большая трудность состояла в том, чтобы решить, к какой категории принадлежит та или иная группа коренного населения. Большинство инородцев крайне отрицательно относились к повышению своего статуса и часто не соглашались с тем, как Батеньков и Сперанский определяли степень их «отсталости». «Оседлые» группы, в частности, шумно протестовали против перевода в ранг налогоплательщиков и писали на этот счет бесчисленные жалобы{356}. Обдорские ханты очень взволновались, обнаружив, что, как «кочевники», они должны платить земские сборы, в то время как их «бродячие» соседи-самоеды и прочие оленеводы будут освобождены от этой обязанности. Тобольский губернатор Д.Н. Бантыш-Каменский прибыл в Обдорск, велел приостановить сбор налогов и рекомендовал перевести обдорских хантов в разряд «бродячих». Петербург имел основания сомневаться в мудрости решения разделить «остяков» на разные категории и, столкнувшись с выбором между сохранением мира и получением незначительного дохода, сделал выбор в пользу первого: в 1827 г. все ханты, манси и ненцы бассейна Северной Оби стали «бродячими»{357}.
Не все финансовые проблемы можно было разрешить с такой легкостью. Присвоение значительной группе инородцев полукрестьянского статуса означало возрастание доходов государственной казны к невыгоде Кабинета императора, который был единственным получателем ясака. Устав хранил молчание на этот счет, и местным чиновникам приходилось гадать, сумеет ли Кабинет смириться с этой потерей или потребует ее полного возмещения за счет оставшихся ясачных людей, новых крестьян или и тех и других. В 1824 г. А.С. Лавинский, генерал-губернатор Восточной Сибири, будучи не в состоянии далее откладывать решение и беспокоясь о «государственном интересе» (и, по-видимому, о своей должности), приказал оседлым инородцам вдобавок к новым налогам платить ясак. Вскоре после этого он признал, что «мера, как крайне обременительная для инородцев, не может быть приведена в действие», и обратился к правительству за помощью. В конце концов императорским указом от 1827 г. было объявлено, что оседлые инородцы действительно освобождаются от уплаты ясака, но что оброчная часть их налогов должна быть передана Кабинету{358}.
Указ решил проблему Лавинского, но не обеспечил большего дохода. Объем ясака резко снизился; «роды» отказывались функционировать как постоянные административные единицы; новые крестьяне были не способны платить налоги; а кочевники из страха быть переведенными в следующий «возраст» либо предпочитали продавать свою пушнину частным торговцам, либо настаивали на уплате ясака пушниной, а не деньгами{359}. В 1827 г. в Сибирь были посланы две ясачные комиссии. Известные под общим названием Второй ясачной комиссии, они провели почти восемь лет за подсчетом инородцев, выяснением их статуса и установлением новых норм дани — в духе Устава об управлении инородцев. Будучи скованы этим законом, они не могли сделать того единственного, чего желали все заинтересованные стороны, — отменить категорию оседлых. Тем не менее комиссии простили все недоимки, накопившиеся до 1832 г., разрешили некоторым группам оставаться кочевыми «дотоле, пока их положение достаточно не улучшится, чтобы сделать возможным для них уплату крестьянских повинностей» и позволили некоторым другим в течение десяти лет платить только две трети налогов{360}.
Что касается будущих «малых народов Севера», то все они — за исключением нескольких групп эвенков — были классифицированы как бродячие инородцы и объявлены освобожденными от налогов. В остальном их отношения с администрацией мало изменились: нормы ясака были повышены в два или даже в три раза, но это повышение было сведено на нет установлением более реалистичных расценок на пушнину. Методы сбора ясака также оставались прежними: незадолго до наступления времени уплаты староста просил грамотного казака записать число принесенных шкурок, после чего оба отправлялись в город, чтобы вручить их местным властям (обычно окружному управлению) для оценки. Процесс оценки был разным в разных местах, но так или иначе оставался тайной для казенных чиновников, которые продолжали жаловаться на дефицит и на снижение качества шкурок{361}. Иногда, в соответствии с Уставом, дань выплачивалась на ярмарках. Андрей Аргентов, миссионер из Нижнеколымска, посетивший Анюй в 1843 г., описывал эту процедуру таким образом:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Книги похожие на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Отзывы читателей о книге "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера", комментарии и мнения людей о произведении.