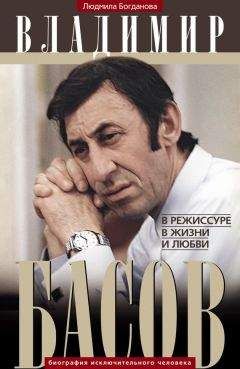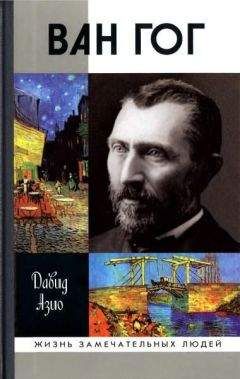Эраст Кузнецов - Павел Федотов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Павел Федотов"
Описание и краткое содержание "Павел Федотов" читать бесплатно онлайн.
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Подобных ей в федотовском кругу до сих пор не водилось. Райская птица, вдруг слетевшая в его лачугу на 21-й линии, она должна была казаться ему вестницей той новой и прекрасной жизни, которая вот-вот откроется перед ним.
Простодушная вера Федотова в справедливость жизненного устройства как будто начинала оправдываться. Успех он зарабатывал честно — не ластился к академическим профессорам, не просил о помощи, не бегал за советами, заглядывая в глаза. Он был терпелив — не выказывал себя до срока, не вылезал с недоспелым, но упорно, не жалея, себя, приближал ту минуту, когда можно будет вдруг выйти на белый свет и поразить всех. Наивная, едва ли не детская мечта — но она осуществилась, он вышел и поразил, и весь Петербург заговорил о нем, а скоро заговорит и вся Россия.
Он даже немного занесся: начал строить планы насчет того, чтобы поехать за границу, прежде всего, разумеется, в Англию, где всерьез не по гравюрам, а в подлинниках изучить все еще почитаемого Хогарта, а заодно и Уилки. Неясно было, правда, на какие средства осуществлен будет этот соблазнительный вояж. И совсем неясно было, кто выпустит его за границу сейчас, осенью 1849 года, когда количество выезжающих частных лиц, и до той поры скудное, было резко сокращено, командировки вообще были прекращены, и даже из Италии были отозваны уже находившиеся там пенсионеры Академии художеств. Да и весь федотовский триумф выглядел таким неуместным на фоне шабаша мракобесия, все более закручивавшегося в России. Федотов, точно, занесся. Впрочем, как его не понять.
Для полноты успеха не хватало лишь печатных отзывов.
Стали появляться и они. Первой, еще 15 октября, откликнулась на выставку булгаринская «Северная пчела», статьей «Журнальная всякая всячина»; статья была подписана литерами Ф. Б., не столько скрывавшими, сколько приоткрывавшими ее автора — самого издателя. О Федотове там было сказано вскользь, но все-таки он был замечен. Потом появились отзывы и в серьезных изданиях — в «Отечественных записках», «Современнике», — и все чрезвычайно лестные для Федотова. Друзья не замедлили известить о том художника и даже доставили ему свежие книжки журналов. Он прочитал, но остался спокоен. Последующие же отзывы он, кажется, даже не просматривал.
Равнодушие Федотова к печатным похвалам слишком не вязалось с тем явным удовольствием, которое он обнаруживал, выслушивая похвалы устные, от кого бы они ни исходили и как бы невзыскательны ни были. Особенность слишком редкая, чтобы не обратить на нее внимание. Обычно как раз устные комплименты, произносимые на ходу, чаще всего вызываемые обстоятельствами и говорящего ни к чему не обязывающие, ценятся ниже печатных, выносимых по зрелому размышлению и налагающих ответственность на писавшего. Дружинин терялся перед странной чертой своего приятеля, но сам же и сделал шаг к удовлетворительному ее разъяснению.
Причин, собственно, было две, и первая заключалась в самом Федотове. Ему, человеку искреннему и прямодушному, упрямо верившему в изначальную чистоту природы и побуждений человека, устное слово, вырвавшееся в минуту беседы, в непосредственном общении, казалось «живей и правдивей» слова написанного, то есть вынашиваемого вдали от читателя и слишком обдуманного, чтобы быть вполне искренним.
С другой стороны, он имел серьезные основания не вполне доверяться печатным отзывам, потому что те были, по словам Дружинина, «нехорошо составлены», — иными словами, их авторам не хватало профессионализма в восприятии и оценке живописи. У Федотова, выстрадавшего свой высокий профессионализм, их суждения доверия вызвать не могли. Куда интереснее ему было мнение приятелей-художников; иные из них, быть может, и двух слов путем связать не могли, но видеть умели и цену живописи знали. Никому из них и в голову не пришло бы заявить, будто картину Риццони, представленную на той же выставке и изображавшую «Комнату для курения в трактире Брюсселя», «можно сравнить с лучшими произведениями фламандской школы», как это делали иные из записных рецензентов.
Русская художественная критика того времени была весьма слаба. В ней еще не видно было не то чтобы своего Белинского, но хотя бы Николая Полевого. Она только-только начиналась.
Безымянным рецензентом «Современника» был, как это установили уже в наши дни, Виктор Гаевский, человек талантливый и умный, но образованный более в литературе, чем в живописи. Он страстно и убедительно обосновал поворот живописи к правдивому изображению повседневной жизни, сославшись на успехи «натуральной школы»; именно ему принадлежат слова о том, что «гнев чиновника на свою кухарку в одинаковой степени достоин внимания искусства, как и гнев Ахиллеса», — слова великолепные, по праву вошедшие в историю русской критики.
Однако рядом с именем Федотова у него то и дело мелькало имя того же Риццони (который, будучи на несколько лет моложе Федотова, умудрился лишь год не дожить до Первой мировой войны, ничем больше не отличившись); да все три картины самого Федотова в отзыве Гаевского шли ровно, как тройка у хорошего ямщика. Вряд ли критик понимал, насколько несоизмеримы они по своему художественному качеству, и, скорее всего, вряд ли придавал этому серьезное значение. Обращение к реальности само по себе было ему дороже всего; принцип был важнее картины.
Второй (снова безымянный) рецензент из «Отечественных записок» также поставил в один ряд Федотова и Риццони, а к ним добавил еще Алексея Чернышева и Николая Сверчкова. Правда, он отмечал, что «по богатству мысли, драматизму положения, обдуманности подробностей, верности и живости типов, по необыкновенной ясности изложения и истинному юмору первое место в картинах этого рода должно принадлежать г. Федотову», и сравнивал эти картины с повестями Гоголя, но тут же оговаривался, что они «уступают произведениям г. Риццони, Чернышева и Сверчкова в тщательности отделки, которая у последних напоминает Миериса», вновь возвращая нашего героя в ту обойму имен, которая сейчас выглядит странно.
Пожалуй, публика воздала Федотову гораздо вернее, слишком наглядно отделив его своей симпатией от Риццони и от Чернышева со Сверчковым. Оно и понятно: те предлагали зрителям «Комнату для курения в трактире Брюсселя», «Внутренность чухонской избы» да «Гауптвахту в Мюнхене» — картины статичные, лишенные выпуклых характеров и драматического действия, в то время как Федотов в каждой своей картине разворачивал целый спектакль из жизни, насыщенной действием и богатыми характерами, позволяющий понимать предшествующее и догадываться о последующем.
Впрочем, и публика, радуясь узнаванию знакомой ей реальной жизни, восхищаясь тем, что эта реальная жизнь может быть запечатлена в живописном произведении, ухватила в его картинах гораздо менее того, что он ей давал, особенно в «Сватовстве майора». Картины его сделали сенсацию, однако сенсация эта лишь отчасти была вызвана их художественными достоинствами, а в большей мере — самой их новизной.
Собственно, так было даже в несравненно более зрелой литературе. И там вкус к злобе дня не раз оказывался способен возобладать над высокими критериями художественности. Что же говорить тогда о живописи, которая едва начинала по-настоящему входить в духовную жизнь общества; что же говорить и об обществе, которое, в свою очередь, едва начинало приспосабливаться к живописи, видеть в ней самостоятельную духовную силу и учиться понимать ее именно как живопись, а не как удобозримое отражение литературы.
Догадывался ли Федотов о том, как неполно прочитываются его картины? Как бы то ни было, триумф есть триумф, и грех им не поупиваться. Настроение было отличное, планы громоздились один на другой.
Для одной из задуманных картин потребовалась ему комната о трех окнах и непременно на теневую сторону. Верный правилу во всем придерживаться натуры, вздумал он переменить квартиру. Несколько месяцев искал, наконец нашел — с комнатой на теневую сторону и тремя окнами — и переехал на 21-ю линию в дом Навроцкой, в том квартале, что между Невой и Большим проспектом.
Прежняя квартира была, бесспорно, нехороша, однако новая оказалась не лучше: шило сменял на мыло. Такой же маленький деревянный домик, ход через двор с ветхими сараями, клетушками и флигелем; тесные сени, чуланчик, который Коршунов тотчас же оклеил картинками, комната побольше, в которую Федотов вывалил все свое имущество — и бюст Венеры Медицейской, и проволочную голову, и гипсы, и мольберт, и гору папок, картонов, подрамников; опять заставил окна снизу, и уже новая квартира как две капли воды стала похожа на прежнюю, даром что в той было два окна, а в этой три, да и стоила она подороже — пять рублей в месяц.
Помимо столь необходимых для картины трех окон, новая квартира обладала еще одним достоинством. Высунув голову в окно, можно было видеть напротив, по 20-й линии, длинный деревянный забор и ворота, а повернув голову направо и слегка вытянув шею, — знакомое здание казарм лейб-гвардии Финляндского полка, занимавшего конец квартала, у Невы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Павел Федотов"
Книги похожие на "Павел Федотов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Павел Федотов"
Отзывы читателей о книге "Павел Федотов", комментарии и мнения людей о произведении.