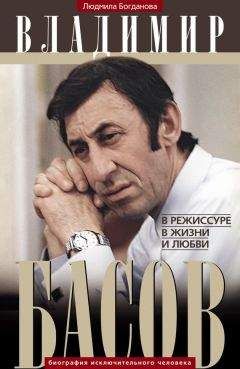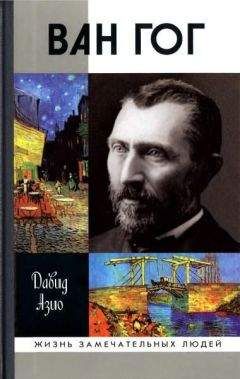Эраст Кузнецов - Павел Федотов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Павел Федотов"
Описание и краткое содержание "Павел Федотов" читать бесплатно онлайн.
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
Но зачем было Федотову учиться в театре жизни? На то была перед ним сама жизнь. А вот незабываемые мгновения полета души, неизъяснимого восторга, вдруг переполняющего тебя, трепета от чужих страстей, бросающих то в жар, то в холод, великого опьянения небывалым, отрешающим от будничного, — мог ему подарить только театр.
Если и учился он чему-то у театра, так не жизни, а искусству. Сцена по-прежнему оставалась для него непревзойденным образцом того, как можно красиво и выразительно расположить и показать зрелище человеческого существования; жесты и мимика и самая позировка актеров показывали, какими зримыми и наглядными могут стать самые тайные, самые сокровенные чувства и побуждения человека.
Все театральные ухватки и приемы тем более легко было перенимать и приспосабливать к своему делу, что театр того времени, как уже было сказано, сам привык подражать картине, равно как и картина — театру, и весь спектакль представал чередой «живых картин», только что заключенных не в золоченую багетную раму, а в громадный портал сцены. Театр и живопись говорили на общем языке, и язык этот художнику надо было усвоить в совершенстве для того, чтобы его поняли зрители. (Федотову еще предстояло отказаться от него — и оказаться непонятым.)
Словом, театр увлек его. Он даже свел театральное знакомство — и не с кем-нибудь, а с Василием Самойловым, уже тогда широко известным актером.
Казалось бы, ему в самый раз сойтись с другим александрийцем, великим Александром Мартыновым, почти ровесником Федотову, актером редкого (сродни федотовскому) трагикомического склада, непревзойденным певцом горестей и радостей маленького человека, изворачивающегося в «медвежьих лапах» российской действительности. Так нет же, сдружился с Самойловым, «протеем русской сцены» — блестящим лицедеем, виртуозным создателем острых человеческих масок. Случай прихотлив. Впрочем, случай их, верно, лишь столкнул, а сблизил уже не случай, а взаимный интерес.
Федотовский круг продолжал меняться. Старых, от полка, приятелей становилось в нем все меньше, да и те мало-помалу отходили на задний план, исключая разве что самых-самых, вроде неистребимых друзей Ждановичей или Рейслеров со всеми их домами.
В повадках общежития Федотов был в известном смысле рационалистом. Его широко известное доброжелательство было слишком уж безупречно и неизменно и слишком уж ровно распределялось среди тех, с кем его сталкивали обстоятельства, чтобы за ним стояла безудержная и всепоглощающая жажда доверительного чистосердечного общения. Жизнь учила его общительности с первых самостоятельных шагов, и учила на совесть. Но по-настоящему ему хватило бы близкого участия очень немногих истинных друзей, может быть, только трех, тех, с кем он пожелал проститься перед смертью — Рейслера, Бейдемана (злосчастная история с Еленой была предана обоюдному забвению, и дружба воссияла вновь) и Дружинина.
И все же общество и общение в самом деле были интересны ему, и новых знакомств он не чурался, а охотно шел им навстречу.
Нужны были непрестанные наблюдения над человеческой натурой — не только те быстролетные, которые в изобилии поставляла ему улица, но и те длительные, скрупулезные, которые может дать только близкое и постоянное общение.
Нужна была (он давно это понял) и известная разрядка, отдых, возможность расслабиться в непринужденной беседе, в легком ухаживании за дамами, в острословии.
Наконец, нужны были, и чем дальше, тем больше, всевозможные новости, которых он был лишен в своем затворничестве, разные мнения и их стычка в свободном, а порою горячечном российском разговоре — к ним он прислушивался, над ними после раздумывал, пытаясь разобраться.
Разбираться было трудно. Говорил ли один из спорщиков — Федотов готов был с ним согласиться во всем, так сказанное было верно. Вступал ли в спор его оппонент — и тот оказывался решительно прав в любом слове, и его аргументы были не слабые. Все противоречили друг другу, и каждый был прав по-своему — и дерзкие мечтатели, убежденные в том, что жизнь надо переменять, и как можно решительнее, и трезвые консерваторы, взывавшие к мудрости высшего промысла, устроившего жизнь именно такой, пугавшие разрушительным хаосом. Все были правы — а жизнь не становилась ни лучше, ни хотя бы понятнее от их разумных и справедливых речений. Мир, когда-то представлявшийся таким простым в своих генеральных нравственных началах, которые надо было для достижения гармонии и благоденствия всего-то и делать, что исправно поддерживать, просвещая заблудших, — этот мир оказывался все более сложным, не поддающимся ни исправлению, ни истолкованию, — противоречивым до мучительной безнадежности. Это новое отношение к миру, которое зарождалось в нем, не несло отрады, и, может быть, он был бы рад возвратиться под сень успокоительной веры в силу высшего Промысла и даже в справедливую мудрость предначертаний и установлений Российской Империи, но назад пути не было.
Менялось не только окружение Федотова — менялось и отношение к нему. Раньше он был дилетант, один из многих, разве что подаровитее. Ему воздавали, но то был успех зрячего в стране слепцов. Сейчас же о нем, о некоем отставном офицере, делающем что-то удивительное, стали поговаривать среди людей, причастных к искусству, и его младшие (порою не намного моложе его) товарищи стали посматривать на него с пиететом.
Он шел туда, куда уже стремились некоторые из художников, но куда еще никто не знал верной дороги. Его безупречное мастерство, словно непонятно откуда взявшееся, его судьба художника, самого себя выучившего и воспитавшего, его положение частного лица, не защищенного ни одним из механизмов государственной службы, не пользующегося ничьей поддержкой, живущего как ему вздумается и делающего то, что ему хочется, — все было необычно, все внушало к нему уважение.
К Федотову все чаще начинали прислушиваться — не только когда он брал в руки гитару или читал стихи, но и когда речь шла об искусстве. Если он и раньше не любил держаться робким молодым человеком, ищущим покровительства, то теперь за ним стояло его дело, дававшее определенные права. Его звали поглядеть новую картину товарища — он смотрел, просили сказать мнение — он говорил, спрашивали совета — он давал, неизменно сохраняя деликатность, присущую ему.
«Расхаживая с ним по чьей-нибудь галерее или по залам Академии во время выставки, нужно было дивиться его беспристрастной, или, скорее, пристрастной в хорошую сторону натуре. Для маленькой искры таланта он прощал все ошибки, ее глушившие; если и таланта не было, он чтил трудолюбие художника, хвалил выбор сюжета, указывал на какую-нибудь малейшую дельно выполненную подробность. Людям, дающим волю своей зависти, стоило иногда послушать эти оценки.
— Не глядите на эти деревья: это веники, — говорил он, — да ведь и старые итальянцы писали веники на своих фонах. Обратите внимание на грацию головки и на эту складочку. — А вот полюбуйтесь на этого голяка, что стоит на коленях. Он в восторге: видно, что у него сердце хочет из груди выпрыгнуть. Освещение… ну да незачем глядеть на освещение! — А вот заметьте, что значит писать на память, без натуры, от себя: у этого сидящего старика нога будет в сажень, если ее вытянуть; зато как милы две девушки по сторонам. Писал француз — французу все прощается.
Терпимость Федотова могла назваться безграничной; даже в его осуждении всегда было нечто мягкое, смягчающее резкость главного приговора. Мимо картин, плохих до крайности, проходил он молча и как бы торопливо: никогда не позволял он себе глумиться над бездарностью, наносить удар упавшему человеку…» — вспоминал Дружинин.
И все же, как ни возрастал его авторитет у художников, как сам он ни оценивал сделанное — все это было еще не то. Главная проверка была еще впереди: выставка. Только она одна могла установить истинную цену его терзаниям, жертвам, труду и подвижничеству.
Положенной годичной выставки Академии художеств в 1848 году не было, но Федотова это не огорчило: со «Сватовством майора» он бы все равно на нее не поспел, а именно «Сватовство» было тем главным, на что возлагалось более всего надежд. Он ждал с замиранием сердца трехгодичной выставки.
Она открылась 2 октября 1849 года и продолжалась ровно две недели.
Успех пришел в первый же день, и успех разительный. Сначала посетители ровно растеклись по всем залам, где висели саженные исторические композиции, парадные портреты, слащавые ненатуральные пейзажи — свежие, недавно сработанные, но ровно ничем не отличавшиеся от прежних. Все это было видано и перевидано, исключая разве что недавно привезенных из Италии, исполненных там по специальному заказу копий с прославленных картин старых мастеров. Но понемногу все залы стали пустеть, а в предпоследнем из них собралась толпа — там висели три картины Федотова: «Свежий кавалер, или Следствие пирушки и упреки» (так ее назвали), «Разборчивая невеста» и «Поправка обстоятельств, или Сватовство» (тоже отчасти переименованная).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Павел Федотов"
Книги похожие на "Павел Федотов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Павел Федотов"
Отзывы читателей о книге "Павел Федотов", комментарии и мнения людей о произведении.