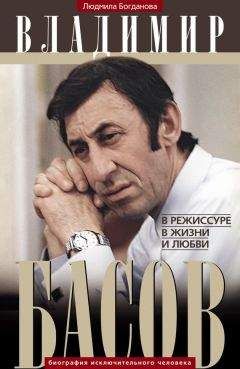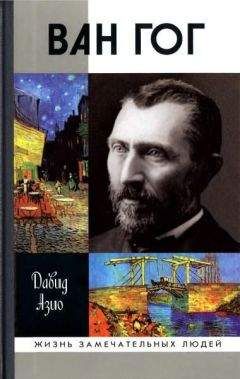Эраст Кузнецов - Павел Федотов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Павел Федотов"
Описание и краткое содержание "Павел Федотов" читать бесплатно онлайн.
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
О 14 декабря и обо всем с этой датой связанном говорили многие, едва ли не все, хоть и вполголоса. Иное дело — кто, что и как говорил, однако как раз об этом нам ничего не известно. 10 марта 1835 года в компании с Шевелевым, конечно же, ничего мало-мальски вольного не произносилось, хотя бы потому, что разговор шел при совершенно незнакомом, да еще не очень симпатичном «каком-то М. Тимофееве, сенатской душе с крючком и ужимочками». Про «грузинские законы и суды», разумеется, не «толковали», потому что о них ничего и не знали, а попросту выслушали, что рассказывал сослуживец, князь Орбелиани, не преминувший заодно похвастаться богатствами своей семьи. Ну а дальше разговор сам собою свернул на более животрепещущее — на «завтрашний парад и панихиду австрийского полка по Франце», то есть по Францу II Иосифу Карлу, только что скончавшемуся.
И так все время: если в один день «рассуждали о вере, о настоящем споре Штатов с Францией», то в другой — «про Москву, целомудрие, поэзию Боасселя» (точнее, Буасселя, тоже сослуживца. — Э. К.), а в третий — М. Крутов «рассказывал анекдот про корову и солдата, описывал дев разных наций и всякую всячину», а в четвертый шли «разные анекдоты», и в пятый — «анекдоты», в шестой делились пошедшими по Петербургу слухами о ловких грабителях и мошенниках, в седьмой же сам Федотов «толковал» «про свою целомудренность и геморройность». И не раз возвращались к взбудоражившему всех событию: полковник Насакен перешел в армию, старые офицеры собрались было дать ему прощальный обед, однако обед не состоялся «по причине непозволительности таких вещей без высочайшего разрешения».
Иными словами, «толковали» и «врали» «про всякую всячину» — на что ни забредет разговор, ничему не давая предпочтения, как это и водится между славными молодыми людьми, честными и добрыми малыми, никакими идеями не обуреваемыми и никаким пафосом не поглощенными. И сам Федотов заносит в дневник всё, что запомнилось из разговора, так же спокойно, ничего не сопроводив словом собственного отношения, ничего не выделив как особенно для себя важное.
Собственно, таким же было и его чтение: сегодня — физика, завтра — «Антенский отшельник», а там и итальянский самоучитель почему-то завелся — «перебирали» его с зашедшим Шевелевым. Что под руку попадется. А что могло попадаться под руку заурядному молодому офицеру из захудалых, всей своей предшествующей жизнью не приученному к духовной пище, не изведавшему самого ее вкуса? До «Таньки-разбойницы Ростокинской», верно, не опускался, как и до булгаринских «Дмитрия Самозванца» или «Ивана Выжигина», — хотя как знать; ну, а уж «Виктором (или Дитя в лесу)» или «Слепым у источника св. Екатерины» Дюкре-Дюмениля, равно как «Пустынником», или «Отступником», славного виконта д’Арленкура или «Шуткой любви» Деборд-Вальмор мог и зачитываться.
Не зря же он грустно сказал про себя к концу жизни: «Мало читавший в молодости».
Странное впечатление производит самый его дневник — такое правдивое зеркало человеческой души. Весь он — дотошная регистрация мелких и мельчайших фактов повседневной жизни. Еще понятно, что в него не проникает не то что ветра, но хотя бы слабого сквознячка от иной, большой жизни, находящейся за стенами полка (если не считать слухов о городских мошенниках): Федотов молод, в Петербурге недавно, круг его узок, это не Александр Никитенко — преподаватель, литератор, цензор, умудрявшийся вращаться одновременно в нескольких сферах и прилежно заносивший по вечерам в дневник все услышанное и увиденное за день. Еще понятно, что в дневнике не виден будущий художник — упоминания о художестве очень часты, но все сводятся к констатации того, кто ему позировал, какие кисточки покупал и прочее, и нет ни слова о впечатлениях от Эрмитажа, дорогу в который уже протоптал. Это все впереди.
Поражает другое. Из дневника невозможно понять, что волновало его автора, о чем он размышлял, чему отдавал предпочтение, к чему стремился, на что уповал, о чем мечтал, в чем сомневался, что восхищало и что огорчало его, какие восторги и разочарования испытывал, как реагировал на все, с чем сталкивался: в дневнике нет сокровенного. «Занавешенное зеркало» — стеснительность, боязнь признаться даже себе самому? В это трудно поверить. Особенно если знать, как сильно проявится в нем жажда словесного творчества, писательства, как охотно будет он излагать на бумаге все свои горести и раздумья не только в зрелые, но и в ближайшие годы, какой неудержимой, чуть ли не маниакальной станет эта привычка к концу жизни. Что же сейчас, когда потребность в искреннем излиянии души должна была бы составлять счастливую принадлежность его юного возраста?
Мелкие заботы, такие же мелкие радости: «полакомился московскими вареньями на Пасху», «в кондитерской Konig выпил шоколаду и лимонаду» — их он и заносит в дневник, вместе с такими же огорчениями: то ножны у полусабли потерял, то к всенощной отправился, забыв повязать совершенно обязательный офицерский шарф, и пришлось бегом возвращаться домой.
Нет, дневник ничего не утаивает. Просто нечего пока было изливать, нечего было и утаивать. Федотов еще не начал осознавать себя настолько, чтобы прислушиваться к тому, что в нем живет и бродит. Еще слава богу, что хватало его на легкую иронию — этот добрый знак того, что человек пытается отличить себя от других, да и на самого себя глянуть со стороны.
Да, он непохож на своих знаменитых ровесников. На двадцатилетнего Лермонтова, который уже давным-давно написал «Парус» и задумывал «Маскарад». На двадцатилетнего Гоголя, пишущего «Вечера на хуторе близ Диканьки». На двадцатилетнего Герцена, уже пять лет тому назад произнесшего вместе с Огаревым свою знаменитую клятву на Воробьевых горах.
На двадцатилетнего Достоевского, который еще ничего не создал, но был объят переживаниями, дерзкими мечтаниями, спаляем мощным жизнелюбием и через неполные четыре года разразился «Белыми ночами» — сразу взлетел на вершину русской литературы. На двадцатилетнего Некрасова, уже похоронившего свой первый стихотворный сборник и мучительно выдирающегося из литературной поденщины.
Двадцатилетний Федотов располагает к себе, но он, с его добропорядочностью, старательностью, честностью, добротой и другими не менее достойными качествами, находится, в сущности, в самом начале своего духовного, истинно человеческого развития, на самом низу той лестницы, по которой ему предстояло подняться. Сколько ему еще надо было обрести (и сколько так и не успеть обрести), со скольким в себе еще расстаться (а с чем, увы, и не расстаться вовсе)!
Верно, нельзя одними лишь обстоятельствами жизни объяснять застойность личностного развития, столь разительную в нашем герое: сказалось, скорее всего, и нечто природное — может быть, предрасположенность к замедленному становлению. Это качество — не порок (как и не достоинство), а свойство натуры: иной рано расцветший и в 20 лет глядящий вторым Цицероном или Рафаэлем — к тридцати-сорока уже увял и никто о нем не поминает, а другой, долго ходивший в робких мальчиках, к тем же тридцати-сорока вдруг становится личностью, обретает способность любить, мыслить, творить — и поражает окружающих. Каждому свое.
Не будем смешивать молодого Федотова с тем, другим Федотовым, каким он стал потом, к концу своей недолгой жизни, и даже с таким, каким он стал через несколько лет, когда решал, оставлять ему полк или нет.
Прапорщик Федотов весь как на ладони — с хорошо вбитой корпусом привычкой повиноваться начальству и оглядываться на «товарищество»; с неизжитым казенным патриотизмом, который он порою и сам изливал в стишки, вроде: «Молиться Богу, правдой жить, / Царя, отечество любить, / Вот русского родное дело…»; со специфическим, быстро ухваченным патриотизмом полковым, вдохновившим его на сочинение песни, в которой прославлялись преимущества егерей перед всеми иными родами войск, вплоть до кавалерии: «Ну-тка, братцы егеря, / Рать любимая царя, / Попоем, попоем, / То ли дело, то ли дело, / То ли дело егеря, егеря, егеря…» — со стародавним российским национализмом, побуждающим русского человека на все нерусское, а пуще всего на немецкое, посматривать слегка свысока; с маленькими влюбленностями, о которых он шушукался с приятелями; с дневником, в который он прилежно заносил немудрящие события минувшего дня; с тетрадочкой, в которую он любовно переписывал все пришедшееся по сердцу — душещипательное («Я не скажу вам, кто она, / Чтоб вы то сами отгадали. / Любезней многих здесь она; / Ее любезней не видали…») и комическое («Фуй на свете как мне крусна, / Мой крестин талёк пашол, / Мой крестин бил ошень вкусна, / Всех мамзель была король…»); с неразвитым, а порою и просто дурным провинциальным вкусом; даже с заметной нетвердостью в российском правописании, со всем, со всем подобным.
Его не в чем упрекнуть, ему трудно что-либо предъявить. Он еще слишком молод, в сущности, он еще юноша. И службу несет исправно, и об умном порассуждает, а нет-нет да и отколет что-нибудь мальчишеское. По-детски сплутует — «жгли ворованные в лаборатории свечки…»; «пошел в магазин купить струны; украл там стальное перо; поделом — мошенники за все вдвое берут; и я взял вместо одного два, и — сократятся» — тут не столько выгоды, сколько удовольствия. В ожидании караула, направляясь от Выборгской заставы к Старой Деревне, занимается «осушением луж, сводя их в канаву», — верно, саблей или ножнами? Заглядывается на барышень: «видели только одну хорошенькую», «пошел к всенощной — пропасть фуфирок»; и с удовольствием вспоминает, как на Пасху в гостях ему «гадали и отгадывали, допрашивали и испытывали по части дел любовных». В церкви во время службы пересмеивается с юнкерами. Дурачится: «…на плоту… пили воду, пиво, трогали лягушек и выходящих из лодок девушек…»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Павел Федотов"
Книги похожие на "Павел Федотов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Павел Федотов"
Отзывы читателей о книге "Павел Федотов", комментарии и мнения людей о произведении.