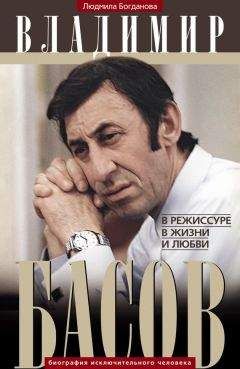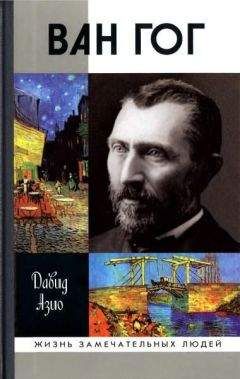Эраст Кузнецов - Павел Федотов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Павел Федотов"
Описание и краткое содержание "Павел Федотов" читать бесплатно онлайн.
Книга воссоздает драматические обстоятельства жизни и творчества выдающегося русского живописца и графика первой половины XIX века Павла Федотова, автора знаменитых полотен «Сватовство майора», «Вдовушка», «Анкор, еще анкор!», «Игроки» и др. Черты личности художника вырисовываются в воспоминаниях современников, в собственных литературно-поэтических сочинениях Федотова и, главное, в его живописи.
Автор — известный искусствовед и историк Эраст Давидович Кузнецов, уделяя особое внимание уникальной роли Федотова в становлении русского бытового жанра, раскрывает смысл, своеобразие и значение его творчества.
А ружейные приемы — все эти странные манипуляции с ружьем, весившим полпуда? А шагистика — диковинный военный балет со своими условностями жанра?
Финляндский полк по фронту ходил в образцовых и был неоднократно отмечаем, в чем справедливо видели прямую заслугу тогдашнего его командира, Михаила Александровича Офросимова, любопытного человека, сумевшего соединить в одном лице автора стихотворений, песен, комедий, романсов (в частности, таких популярных, как «Уединенная сосна» и «Коварный друг, но сердцу милый…») с крепким фронтовиком. Именно к Офросимову во время одного из парадов обратился Николай I, не сумевший противостоять нахлынувшему на него восторгу: «Дай мне поцеловать твою мордочку!» А когда тот от смущения, а еще более от боязни повредить монаршью щеку некстати расстегнувшейся чешуей под кивером, замешкался и «поцелуй мог выйти неудачным» — поторопил его: «Ну, целуй же!»
Но эти поистине светлые мгновения высочайшего признания давались мучительно.
Солдат нещадно били. Речь идет не о «законных» наказаниях — не о печально известных шпицрутенах, которые все-таки назначались нечасто, и не о розгах, которые против шпицрутенов были почти что детская забава, их и называли шутливо — «лозаны». Речь идет о битье незаконном (временами за рукоприкладство даже наказывали, но от того ничего не менялось), повседневном, вошедшем в самую плоть николаевской армии.
Били без системы — кулаком и всем, что ни попадет под руку — ножнами, эфесом сабли, барабанными палочками, шомполом, фухтелем. Нашли способ пороть солдат прямо на учениях: провинившегося выводили из строя, ставили его перед фронтом опершись на ружье, двоим унтерам приказывали задрать на нем сначала патронную сумку, потом тесак, потом фалды, а еще двоим — пороть. Разумно сберегая собственные силы, устраивали «взаимные обучения», не хуже ланкастерских, только на российский манер: каждый солдат бил идущего перед ним, потом, для сохранения равенства, следовала команда «налево кругом» и роли менялись. Унтера метили виноватых мелом, чтобы расправиться с ними на досуге, в казарме.
Природно жестоких людей, тем более садистов, не так уж много, и николаевские офицеры вряд ли составляли безотрадное исключение. Били по неразвитости представлений о правах человеческой личности, били по полному отсутствию таких представлений у самих этих личностей, били по стародавнему российскому убеждению, будто без битья вообще не выучить — ни ребенка, ни крепостного, ни лошадь (один битый двух небитых стоит), били по привычке и, наконец, по самому простому — по собственной беспомощности, срываясь в озлоблении, и это могло случаться, и не раз случалось, даже с самыми умными и справедливыми людьми.
Что ж наш Федотов? Как он заработал свою репутацию образцового строевика? Сам, видимо, все-таки не рукоприкладничал. Не столько потому, что «солдатика любил» (как сам говаривал) и вообще был общеизвестно добр. Человек спокойный и дельный офицер, он должен был понимать, что бешенством немногого добьешься там, где нужны разумная строгость, настойчивость и терпение. «Без особою горячности».
И все же сохраним трезвость. Как исправно и разумно ни веди службу, но виноватые всегда будут и не наказывать их невозможно. Положим, мог он в пределах своей власти прапорщика, потом подпоручика, потом поручика, хоть отчасти смягчать обращение с рядовыми. Однако и самые эти пределы были крайне ограниченны, да и внутри их он не был бы в состоянии переступить границу между допустимым легким либерализмом и посягательством на общепринятое и узаконенное — это бы ему дорого обошлось. Пусть он не назначал солдат на порку, но должен был исправно подавать рапорты о происшествиях и проступках, многие из которых прямиком вели к «лозанам», и он прекрасно это понимал. А при какой-то очередной звездочке он становился обязан и сам определять наказание. От этого никуда не уйдешь.
Слишком многое надо было принимать как должное, иначе пришлось бы прощаться со службой.
Бессмысленность учений соревновалась с бессмысленностью караульной службы, которая была видимостью дела, — сберегать, охранять, стеречь, — но именно и только видимостью: у караульных офицеров никогда не были заряжены пистолеты. Бессмысленно было нести караульную службу у городских застав. У каждого проезжающего следовало просмотреть подорожную и занести имя в специальный список, без чего не следовало сакраментальное «Бом двысь!» и шлагбаум не подымался. По окончании смены караульный офицер сам сдавал списки в ордонансгауз, откуда они шли на просмотр самому императору. Строгость проверки обесценивалась тем, что ей не подлежал любой едущий на извозчике или хотя бы просто отвечавший, что направляется на дачу или с дачи.
Самым неприятным в караульной службе были бесконечные проверки. Особенной страстью к проверкам отличался великий князь Михаил Павлович, командир Отдельного гвардейского корпуса и замечательный знаток устава. Недаром даже император Николай, заметив как-то на солдате расстегнутую пуговицу и будучи настроен игриво, шепнул ему: «Застегнись, великий князь едет!» Ходили легенды о феноменальной способности Михаила Павловича свалиться как снег на голову — подкрадываясь из-за угла, подъезжая с неожиданной стороны и даже не гнушаясь укрываться за проезжающей чужой каретой (великая страсть порождает великое же подвижничество). «Тот не офицер, кто по крайней мере пять раз на гауптвахте не сиживал», — любил приговаривать он.
Так что более всего стеречь нужно было самих себя. Впрочем, многое зависело от места несения караула.
Были караулы сравнительно легкие — главным образом те, что в стороне от начальства: в Петропавловской крепости, в Артиллерийской лаборатории, в госпитале, в Новой Голландии, не говоря уж о благословенном Галерном порте, где и оберегать вообще было нечего и куда проверяющая десница никогда не забиралась, — там по-домашнему заваливались в постель, едва заступив караул. Их и прозвали «спячками». По-своему хороши были, при всей их беспокойности, караулы у городских застав — и далеко, и наружных постов мало, только у фронта да у шлагбаума, обходить нечего.
Но были и «горячки», где не поспишь, где даже после вечерней зари (с обязательным обходом барабанщика, вызовом караула и молитвой) можно было себе позволить лишь такую малость, как сменить тесный мундир на немного более вольготный сюртук.
Беспокойными считались караулы во дворцах — Зимнем, Константиновском, Михайловском. Тут опасность таилась за спиной, тут даже сидеть приходилось по-особому: боком и полулежа, упершись в соседний стул и протягивая ноги сначала в сторону, потом перед собою, чтобы не появились пузыри на коленях; о том, чтобы расстегнуть хоть одну пуговицу на мундире или ослабить туго затянутый офицерский шарф, нельзя было и помыслить.
Однако и в дворцовых караулах была своя отрадная сторона. Все они стояли во дворах, за решетками, и надобность выбегать на улицу возникала очень редко. А добрая офицерская компания, собиравшаяся там! А обед, ужин, чай и кофе с придворной кухни — отличные и вволю! А увлекательные придворные сплетни, позволяющие ощутить себя хоть немного приближенным! Маленькие радости, но когда больших недостает, то и маленькие в особой цене.
Выпадали караулы часто, до сорока раз в году. Если откинуть время летних лагерей, то выходит, что едва ли не каждую неделю приходилось получать назначение и, открывая его, гадать: повезло или нет?
Если ежедневные учения и даже столь частые караулы с их нехитрым разнообразием составляли ровное течение полковой жизни, то парады и смотры, несомненно, оказывались своеобразными пиками этой жизни. Парады могли быть экстраординарные, по случаю каких-либо торжеств, вроде открытия Нарвских триумфальных ворот в 1834 году, или освящения Александровской колонны в том же году, или открытия других триумфальных ворот — Московских в 1838-м, могли посвящаться приезду зарубежных высоких гостей или дням рождения и тезоименитствам членов августейшего дома, но могли и ничему не посвящаться.
Проводились они в любое время года и во всякую погоду, даже в лютый мороз. Николай I, являя собою образец личного стоицизма и заботы о ближних, советовал окружавшим его генералам: «Трите лицо, щиплите уши, господа!» — и подкреплял совет собственным примером. Но что оставалось делать самим участникам парада, облаченным в одни лишь мундиры? Ноги оборачивали проклеенной листовой ватой, под мундир натягивали по две рубашки.
Степень важности парада соотносилась с местом, где он проходил: на Дворцовой площади, или на другой, поменьше, между Зимним дворцом и Адмиралтейством, или на манеже Инженерного замка, на Марсовом поле, на Семеновском плацу, а когда и совсем неподалеку, на Смоленском поле. Ну а каждое воскресенье — обязательный развод в Михайловском манеже, по одному взводу от каждого полка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Павел Федотов"
Книги похожие на "Павел Федотов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эраст Кузнецов - Павел Федотов"
Отзывы читателей о книге "Павел Федотов", комментарии и мнения людей о произведении.