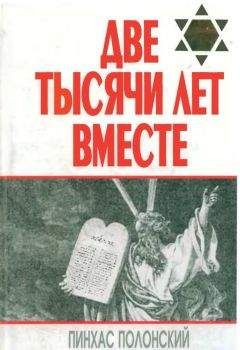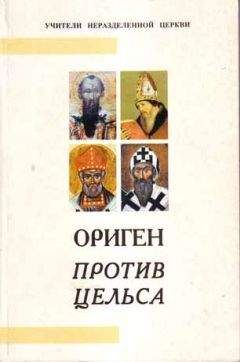Клаудио Морескини - История патристической философии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История патристической философии"
Описание и краткое содержание "История патристической философии" читать бесплатно онлайн.
Первая встреча философии и христианства представлена известной речью апостола Павла в Ареопаге перед лицом Афинян. В этом есть что–то символичное» с учетом как места» так и тем, затронутых в этой речи: Бог, Промысел о мире и, главное» телесное воскресение. И именно этот последний пункт был способен не допустить любой дальнейший обмен между двумя культурами. Но то» что актуально для первоначального христианства, в равной ли мере имеет силу и для последующих веков? А этим векам и посвящено настоящее исследование. Суть проблемы остается неизменной: до какого предела можно говорить об эллинизации раннего христианства» с одной стороны, и о сохранении особенностей религии» ведущей свое происхождение от иудаизма» с другой? «Дискуссия должна сосредоточиться не на факте эллинизации, а скорее на способе и на мере, сообразно с которыми она себя проявила».
Итак, что же видели христианские философы в философии языческой? Об этом говорится в контексте постоянных споров между христианами и язычниками, в ходе которых христиане как защищают собственные подходы, так и ведут полемику с языческим обществом и языческой культурой. Исследование Клаудио Морескини стремится синтезировать шесть веков христианской мысли.
Подобный конкордизм может быть предметом критики, поскольку он нацелен на устранение различий; но, так или иначе, это не единственный и не последний случай его проявлений: достаточно вспомнить о платонической мысли эпохи итальянского Возрождения. В те времена конкордизм, о котором мы говорим, положил начало подлинным и неподдельным ересям, которые сопоставимы с арианством, так что сам Марсилио Фичино предупреждал об опасности проводимого наспех отождествления между Логосом платоников, для которых он был «вторым богом», и Логосом — Сыном Божиим.
Если конкордизм и представляет собой интерес с точки зрения истории христианской мысли и того пути, по которому он продвигался в последующие века, в целом он не стяжал сколько–нибудь открытого успеха: редуцировать тринитарное богословие к триаде Порфирия было слишком легковесным и дерзким начинанием, к которому относились с терпимостью только в определенных кругах ученых христиан–греков и только в течение определенного периода. И хотя эта попытка не завершилась в лице Кирилла, она возобновлялась только представителями аналогичных культурных ситуаций — примером чему может послужить эпоха Возрождения — а затем от нее снова отказывались.
Дополнительным подтверждением этого тезиса может быть признана позиция, занятая Августином Стевком. Место из Амелия, которым мы занимались, служит для Стевка, как для многих других, в целях обоснования его учения о philosophia perennis [вечной философии] (см. Augustini Steuchi Eugubini episcopi […] Deperenniphilosophia libri decem. De mundi exitio. De Euguii, urbis suae nomine, Tractatus, Parisiis, apud Michaelem Sonnium 1578, Lib. I, cap. XXXI, cc. 32v–33r). Интерпретация Стевка еще более благожелательна, чем соответствующая интерпретация Кирилла: Амелий, несмотря на то что он был язычником, ссылался на Логос Гераклита и на начальную часть Евангелия от Иоанна, но — более того — он знал и одобрял также и христианское учение. Поступая таким образом, Амелий следует не только древним философам Греции, но также и Иоанну, которого он называл «варваром» в силу того, что тот был евреем: такова же и интерпретация самого Кирилла. Стевк предается восторгу, что он часто делает перед кажущимися ему убедительными свидетельствами согласия между христианством и античной мудростью, ссылаясь именно на это место из Кирилла.
Вывод, к которому приходит Стевк, состоит в том, что существуют древнее богословие и новое богословие, однако они совпадают друг с другом — и христиане не поклоняются Богу, отличному от Бога язычников (Eadem igitur est vetus, ас nova Theologia, пес alium adoramus Deum auctorem principemque generis humani, atque illi). Такое согласие между христианами и язычниками оставляет, в качестве своего следствия, в изоляции иудейское богословие, которое пребывало всегда непреклонным к тому, чтобы признать сушествование некоего Бога–Слова: а, между тем, оно уже было предвозвещено языческими пророками из глубочайших недр античности.
В любом случае, если вернуться к Кириллу, этот конкордизм, быть может, имел успех — и, притом, немалый — там, где мы этого не ожидали. Согласно некоторым ученым (к примеру, Симонетти), триада Порфирия действительно могла послужить эффективной моделью для мысли Каппадокийцев и для выработки ими формулы: «единая божественная сущность, проявляющаяся в трех ипостасях». Подобно тому как Порфирий заявил, что божественная сущность проявляет себя в Благе, в Уме и в Душе, нисходя только до этой последней, так и Каппадокийцы восприняли учение, согласно которому Бог именно таков в силу его трехипостасного устроения, но, однако, они отвергли (и это была существенная модификация триады Порфирия) градацию в сущности. Если мысленно двигаться от Отца к Сыну, а затем к Духу, то в их чреде нет различия по сущности, ни, тем более, последовательного убывания божественности,
в то время как, согласно Порфирию, Отец, Ум и Душа образуют некую реальную иерархию сил.
БИБЛИОГРАФИЯ. P. Aubin. Plotin et le christianisme. Triade plotinienne et Trinite chretienne. Paris, 1992; M.O. Boulnois. Le paradoxe trinitaire chez Cyrille dAlexandrie. Hermeneutique, analyses philosophiques et argumentation theologique. Paris, 1994; N. Charlier. Le «Thesaurus de Trinitate» de saint Cyrille d’Alexanarie. Questions de critique litteraire // RHE 45 (1950). P. 25–81; R.M. Grant. Greek Literature in the Treatise De Trinitate and Cyril's Contra Julianum // JThS 15 (1964). P. 265–279; J.M. Labelle. Saint Cyrille d’Alexandrie temoin de la langue et de la pensee philosophiques au Vе siecle // RSR 52 (1978). P. 135–158 и 53 (1979). P. 23–42; J. Liebaert. Saint Cyrille dAlexandrie et la culture antique 11 MSR 12 (1955). P. 5–26; W.J. Malley. Hellenism and Christianity. The Conflict between hellenic and Christian Wisdom in the Contra Galilaeos of Julian the Apostate and the Contra Julianum of St. Cyril of Alexandria. Roma, 1978; E.P. Meijering. Cyril of Alexandria on the Neoplatonists and the Trinity // «Nederlands Theologisch Tijdschrift» 25 (1974). P. 16–29; C. Moreschini, Una deflnizione della Trinita nel Contra lulianum di Cirillo di Alessandria // C, Moreschini — G. Menestrina (изд.). Lingua e teologia nel cristianesimogreco. Brescia, 1999. P. 251–270; Idem. Isapientipagani nel Contra lulianum di Cirillo di Alessandria // «Cassiodorus» 5 (1999). P. 11–33; P. Rosa. Gli occhi del corpo egli occhi della mente: Cirillo Alessandrino: testi ermeneutici. Bologna, 1995; R.M, Siddals. Logic and christology in Cyril of Alexandria // JThS 38 (1987). P. 341–367.
Глава девятая. Христианская греческая философия в VI и VII веках
I. Псевдо–Дионисий Ареопагит
До сих пор таинственной является личность того, кто под именем Дионисия Ареопагита, упоминаемого в Деян. 17, 34, сочинил совокупность произведений, известных как «Ареопагитский корпус» (Corpus Areopagificum, или Dionysiacum). Дионисий Ареопагит впервые официально упоминается монофизитами–северианами и епископом Ипатием Эфесским во время встречи православных–халкидонитов с северианами, проходившей в Константинополе в 532 г.; севериане апеллировали в том числе к Ареопагиту ради подтверждения своего православия, однако Ипатий поставил под сомнение аутентичность его писаний.
И хотя в течение всего средневековья автор названного Корпуса действительно почитался как ученик святого апостола Павла, мнение Ипатия не представляло собой единичный казус: современные ученые собрати свидетельства различных ученых Средних веков, которые сомневались в том, что Корпус принадлежит апостольскому времени.
Но особенно это проявилось в эпоху Возрождения, когда легенда о Дионисии Ареопагите подверглась решительному развенчанию: имена Лоренцо Валлы и Эразма известны также и за заслуги в этой области. Впоследствии их тезис был воспринят и углублен эрудитами XVII в., такими, как Ле Квэн, и теперь он уже не является предметом опровержения, хотя находилось немало тех, кто, начиная с эпохи Возрождения и почти вплоть до наших дней, выступали в качестве апологетов аутентичности Корпуса, особенно среди французов, движимых настоятельным желанием идентифицировать данного автора не только с Дионисием Ареопагитом «Деяний», 17, 34, но и с первым епископом Парижа.
Два параллельных исследования X. Коха и И. Штигльмайра были направлены на то, чтобы уточнить хотя бы приблизительно хронологию Корпуса. Оба ученых продемонстрировали тесную зависимость части четвертой главы «О Божественных именах» от произведения Прокла «Об ипостасях зла ». А значит, автор Корпуса должен был быть либо современником Прокла (умершего в 485 г.), либо человеком, жившим немного позже него.
Затем Штигльмайр уточнил эти хронологию, придя к выводу, что период написания Корпуса должен быть заключен в рамки между 482 г. (дата Энотикона) и началом VI в. Наряду с этими умозаключениями было также сделано множество попыток идентификации автора с тем или иным историческим персонажем.
И даже если при нынешнем состоянии наших знаний не оказывается возможным прийти к неоспоримому выводу касательно точной идентичности автора, следующие соображения способны, однако, пролить некоторый свет на его личность.
1. Возможно, он являлся уроженцем Сирии. Штигльмайр отметил, что параграф, относящийся к поставлению во епископа, во пресвитера и в диакона в «О церковной иерархии», V 7 (110, 10–19) построен по образцу параграфа «О поставлениях», обнародованного патриархом Антиохийским Игнатием Ефремом Рахмани. В любом случае, неопровержимым фактом является то, что Корпус, немного спустя после своего появления, стяжал значительный успех именно в сирийской среде.
2. Зависимость Псевдо–Дионисия от Прокла не ограничивается воспроизведением со стороны последнего различных доктрин и выражений, характерных для Прокла, но, как показал Саффре, проявляется также в употреблении и точных технических терминов (θεανδρικός [богомужний], θεονυμικαάγάλματα [богоименные изваяния], θεονργικά φώτα [бого–зданные светы], ύπερούσια φώτα [сверхсушностные светы], ένάς [генада] и т. д.), что доказывает объективную связь между этими двумя авторами. Эти тесные и личные отношения между Псевдо–Дионисием и Проклом находят себе, судя по всему, подтверждение с учетом двух обстоятельств:
а) в трактате «О божественных именах», II 9 (134, 6) Псевдо–Дионисий приписывает своему учителю Иерофею «Первоосновы теологии», соответствующие заглавию важного произведения Прокла «Первоосновы теологии»; б) Образ Иерофея, обрисованный Псевдо–Дионисием в «О божественных именах», 111 2 (141, 8—14), а именно, то, что, когда Иерофей воспевает гимны, создается впечатление, что он отделяется от тела, сопоставим с аналогичным описанием Прокла Марином в его «Жизни Прокла». Существует почти полная уверенность в том, что «Иерофей» есть не что иное, как псевдоним Прокла.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История патристической философии"
Книги похожие на "История патристической философии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Клаудио Морескини - История патристической философии"
Отзывы читателей о книге "История патристической философии", комментарии и мнения людей о произведении.