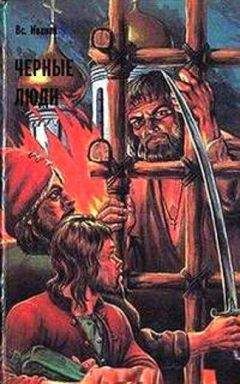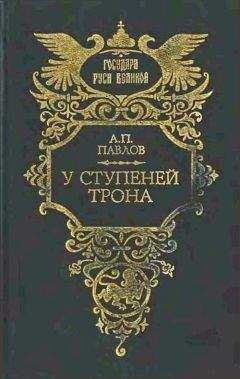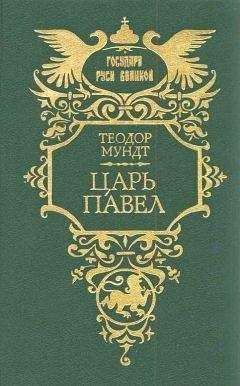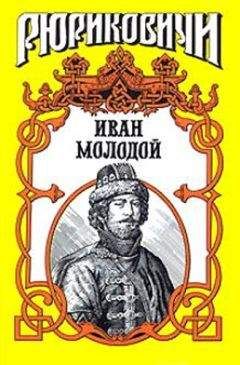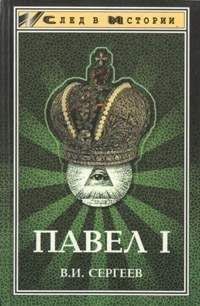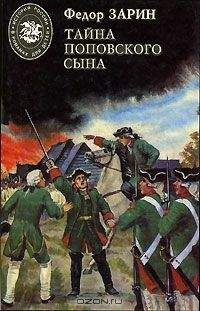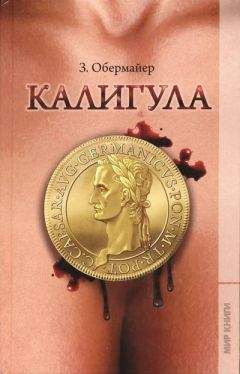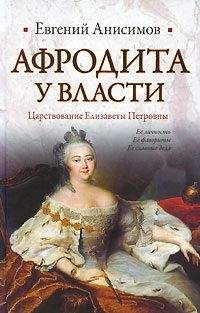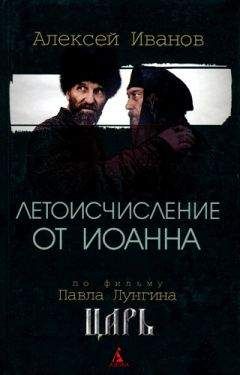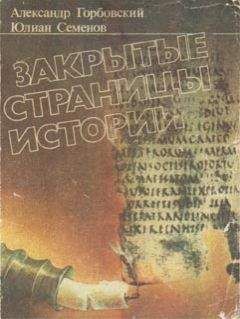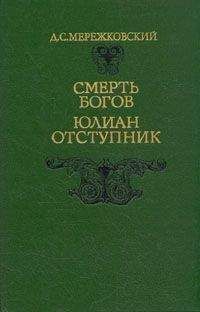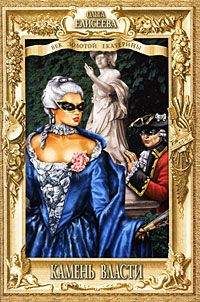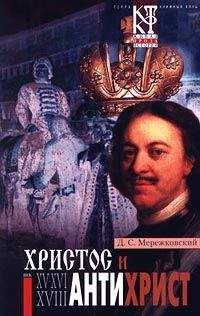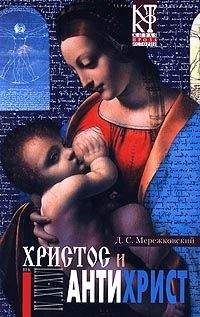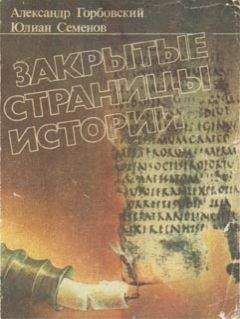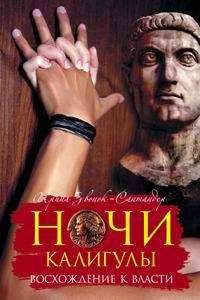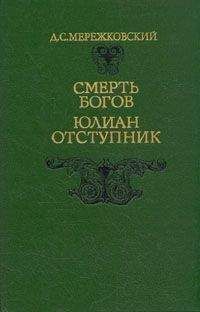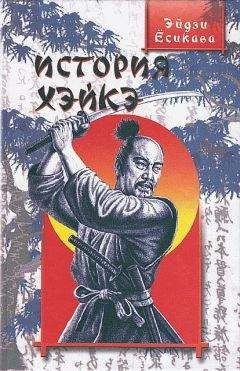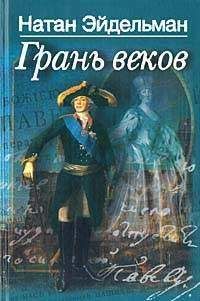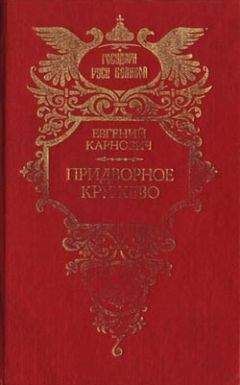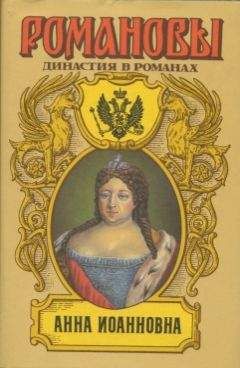Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории
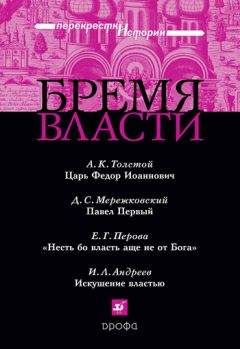
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Бремя власти: Перекрестки истории"
Описание и краткое содержание "Бремя власти: Перекрестки истории" читать бесплатно онлайн.
Тема власти – одна из самых животрепещущих и неисчерпаемых в истории России. Слепая любовь к царю-батюшке, обожествление правителя и в то же время непрерывные народные бунты, заговоры, самозванщина – это постоянное соединение несоединимого, волнующее литераторов, историков.
В книге «Бремя власти» представлены два драматических периода русской истории: начало Смутного времени (правление Федора Ивановича, его смерть и воцарение Бориса Годунова) и период правления Павла I, его убийство и воцарение сына – Александра I.
Авторы исторических эссе «Несть бо власть аще не от Бога» и «Искушение властью» отвечают на важные вопросы: что такое бремя власти? как оно давит на человека? как честно исполнять долг перед народом, получив власть в свои руки?
Для широкого круга читателей.
В книгу вошли произведения:
А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович» : трагедия.
Д. С. Мережковский. «Павел Первый» : пьеса.
Е. Г. Перова. «Несть бо власть аще не от Бога» : очерк.
И. Л. Андреев. «Искушение властью» : очерк.
К ним прибегали многочисленные самозванцы, коих было несметное число в XVII–XVIII и отчасти в XIX веках. Чтобы не создавать удручающего впечатления о вопиющей наивности наших «простецов», заметим, что по аналогичной парадигме действовали самозванцы и в Европе. Так, в конце XVI века, после утраты Португалией независимости, на Пиренеях получила хождение легенда о короле Себастьяне, который должен был вырваться из плена и освободить страну от испанского владычества. На роль Себастьяна претендовало несколько человек (близость Себастьяна и нашего Лжедмитрия не ускользнула от внимания современников, уловивших наступление самозванческой эпохи). Правда, португальцы на «знаки» особо не напирали – зато вычислили точные «антропологические данные», по которым можно будет узнать избавителя: правая (!) кисть больше левой, правая (!) рука длиннее левой и т. д. В ход шла также оттопыренная нижняя губа и большие руки – то были уже всем известные «родовые» отметины Габсбургов, не позволяющие сомневаться в «благородности» происхождения претендента [12; 150]. Все эти представления восходят к одному, сложившемуся в глубокой древности архетипу: посвященный должен был внешне выделяться среди остальных. Чаще – силой и богатырским телосложением, реже – известной асимметричностью и «знаками».
Уже упоминалось, что российские самозванцы особенно рьяно эксплуатировали стереотип со «знаками», как важнейшее доказательство их царственного происхождения. В историях с самозванцами признание или непризнание «знаков» подлинными «царскими пятнами» – необходимый этап. Самозванец Кремлев, выдававший себя за Петра III, получил поддержку лишь после того, когда перед ним склонился местный батюшка. Тот, будучи, по-видимому, большим пронырой, объявил, что государя Петра Федоровича «на руках нашивал» и ныне признал его по отметине – «беловатова вида кресту» на ноге [65; 39]. На собравшихся слова попа произвели большое впечатление. Во-первых, потому что попу «по священству» не положено лгать. Во-вторых, из-за обнаруженного «царского знака».
Знаки в русской истории фигурировали и раньше. Причем, по-видимому, для «простецов» не всегда нужно было их прямое упоминание. Согласно легенде, Дмитрий Самозванец открыл тайну своего происхождения Вишневецким в бане. Конечно, баня – место «нечистое», и впоследствии, после падения Лжедмитрия I, это лишний раз доказывало, что самозванец – колдун и чернокнижник. Но ведь с другой стороны, где, как не в «мыльне», было уместно предъявить «царские знаки»? Так что в первоначально запущенной версии о явлении царевича Дмитрия знаки не упоминались, но подразумевались…
Все эти особенности народного восприятия царя лишний раз свидетельствуют, что сакральная составляющая среди всех представлений-стереотипов играла доминирующее значение. Неудивительно, что в поведении первых Романовых преобладало стремление демонстрировать священный характер царской власти, свою богоданность. Такая репрезентация ассоциировалась в сознании масс с «гарантией» стабильности и процветания под скипетром столь праведного государя, что обеспечивало ему поддержку.
Наибольших «успехов» в упрочении позиций новой династии достиг Алексей Михайлович, правление которого стало центральным в XVII столетии. Свою богоизбранность он осмысливал прежде всего как ответственность за судьбу Православного царства перед Спасителем. Потому для него «царское дело» – Божье дело. «Иду на Божью службу», «мы на Божьей службе», – роняет он фразы в письмах родным. «Повелением всесильного, и великого, и бессмертного, и милостивого царя царем и государя государем и всех всяких сил повелителя господа нашего Иисуса писал сие письмо многогрешный царь Алексей рукою своею», – выспренне провозглашал он в полуофициальных посланиях [61; 770–771]. Чувствуется, что здесь – отражение целого мировоззрения, покоившегося на твердом убеждении в священном характере царской власти и ее эсхатологическом предназначении.
Такая уверенность для Алексея Михайловича – основание требовать от «государевых холопей» полного послушания, причем послушания добровольного, не за страх человеческий, а за страх Божий. Отсюда постоянный рефрен его грамоток: служить нам «всем сердцем», «с любовью», «радетельно». Только за такую службу справедливо получать царские милости и жалованье. Наказание же за ослушание для второго Романова – мера тягостная и вынужденная, «покамест навыкнут иметь страх Божий» [47; № 47, № 48].
Царь сам демонстрирует примеры праведного, благочестивого поведения. После трех лет правления он – труженик, «люботрудник». Множество документов содержат на полях его распоряжения. Выведенные торопливым и несколько отрывистым почерком пометы «справитца», «подумать», «ведомо», «отписать» – лишь слабые следы той напряженной работы, которая происходила в голове царя при чтении бумаг [2; № 836, № 4303, № 4731]. Однако, как это ни странно, вовсе не трудолюбие и даже не собственное позицирование Тишайшего упрочивали священный характер царской власти в представлении низов. Все эти стороны деятельности монарха были им малодоступны. Иное дело – царские выходы, участие государя в церковных службах и крестных ходах, богомольных походах по монастырям и святым местам.
На самом деле, именно церковные церемонии и выходы открывали для средневековых монархов возможность явиться перед народом земным богом в «неземном величии» [26; 377]. В годы царствования Алексея Михайловича эта обрядо-церемониальная сторона деятельности царского двора и церкви получила наиболее полное выражение, свидетельствуя, с одной стороны, о благочестии и смирении Московских государей и их слуг, верных сынов церкви, с другой – о высоте и священном характере царского сана, столь полно выраженном в торжественном шествии Царя Земного к Царю
Небесному [37; 17]. В церковь шествовал не человек – образец святости!
Участие царя в церковных и придворных церемониях придавала им высший смысл. Уже само облачение Алексея Михайловича свидетельствовали о «ранге события». На целый ряд праздников – Новолетие, Богоявление (Крещение), Вознесение, Троица, Вход Господень в Иерусалим – Тишайший представал перед своими подданными в Большом наряде. Для подданных, получавших возможность увидеть Алексея Михайловича во всем великолепии и блеске царского наряда, это и было, собственно, лицезрение Царя Земного.
Иногда Алексей Михайлович облачался в Большой наряд в самой церкви. Тогда активизировались иные смыслы – это уже было не просто облачение, а возложение царского сана, еще одно напоминание о сакральной природе власти государя. Снятие же знаков царской власти по окончании службы оказывалось поучительной демонстрацией кротости и смирения. Царь всенародно покидал храм, умерив свой блеск и величие. Наконец, само шествие, с патриархом, властями, духовенством, «честными крестами», мощами и святыми иконами, в сопровождении придворных – все это зримо и осязаемо соединяло в одно целое атрибуты царской власти с атрибутами священного происхождения.
Количество церковных церемоний и шествий с участием Тишайшего впечатляет. В иные годы их число приближалось к цифре 100. Если учесть, что почти все эти церемонии включали многочасовые службы и продолжительные шествия, повергавшие заезжих греков в ужас («… у московитов железные ноги», – жаловались гости с востока). Если к этому добавить еще длительные богомольные походы по монастырям, то невольно возникают вопросы: Когда же Тишайший находил время править? И правил ли?
Правил. Мы уже упоминали о непосредственном участии второго Романова в государственных делах. Но дело не в этом. Некорректна сама постановка вопроса, сформулированная, исходя из представлений Нового времени. Тишайший, как и его предшественники (включая «молитвенника» Федора Ивановича), руководствовался иной логикой и иными ценностями. Для них участие в подобных церемониях было не просто демонстрацией благочестия, а прямое царское служение, не менее важное, чем охрана границ или справедливый суд.
Замечательно, что в церкви Алексей Михайлович нередко разбирал судебные тяжбы. Первое упоминание о подобных опытах связано с Никоном. Будучи архимандритом Новоспасского монастыря, он получил от Тишайшего право собирать прошения на царское имя. Челобитные обильно потекли в руки Никона, который регулярно, «в пяток», встречал приехавшего царя на пороге своей обители. Разбирал челобитные Алексей Михайлович прямо в храме. Обстановка не смущала его. Напротив, в этом был особый смысл – царский нелицемерный суд, освященный свыше. Не это ли и есть торжество «правды»? В последующем такие занятия вошли у него в привычку и не одна царская грамотка заканчивалась пометой: «Писана сия припис на всенощной у пресвятыя Богородицы честного ее Покрова во время егда воспели первый припев» [52, 13–15; 19, 237]. Дело дошло до того, что шведский представитель в Москве, явно преувеличивая, отмечал в своих письмах в Стокгольм: «…почти всегда император занимается делами в церкви» [28; 189].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Бремя власти: Перекрестки истории"
Книги похожие на "Бремя власти: Перекрестки истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Мережковский - Бремя власти: Перекрестки истории"
Отзывы читателей о книге "Бремя власти: Перекрестки истории", комментарии и мнения людей о произведении.