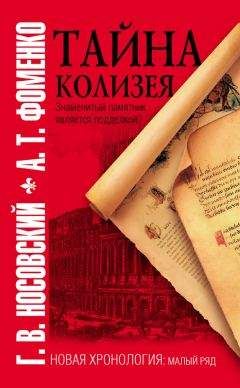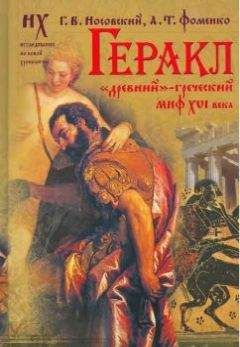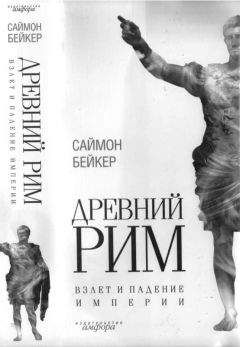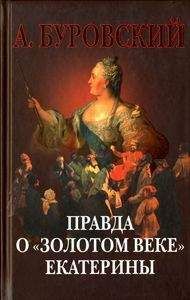Юрий Чернышов - Древний Рим: мечта о золотом веке

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Древний Рим: мечта о золотом веке"
Описание и краткое содержание "Древний Рим: мечта о золотом веке" читать бесплатно онлайн.
Книга доктора исторических наук, профессора Юрия Чернышова «Древний Рим: мечта о золотом веке» посвящена античному феномену — идее о существовании в прошлом золотого века, когда люди жили счастливо, без пороков, в единстве с природой. Эта идея непрерывно развивалась и находила отражение в религиозных пророчествах, в литературных утопиях, в политической пропаганде. Мечта о возвращении в утраченный рай вдохновляла пророков, писателей и философов, влияла на быт простых людей, подготавливала почву для распространения христианских ожиданий. Юрий Чернышов исследовал массу источников — мифы, произведения древнеримских авторов, концепции грядущего Царства Божия у ранних христиан. Его книга охватывает все время существования Древнего Рима — от полулегендарного периода выборной монархии до гибели Империи.
Если во время восстаний рабов во II—I веках до н. э. события нередко развивались по формуле «кто был ничем, тот станет всем» и раб Эвн действительно стал царем, то теперь, после разгрома восстаний, эта же формула нашла воплощение не в реальных событиях, а в морально-философских рассуждениях. Истинный царь согласно этой формуле — добродетельный нищий. Истинно счастливые люди — бедняки. Истинные рабы — те, кто свободен, но алчен, а истинные свободные — рабы, освободившие душу от страстей.
Как бы продолжая идею о том, что «блаженный остров» для киника — его нищенская сума, киник Деметрий, по словам Сенеки, утверждал: «Мое царство — мудрость. Оно огромно и мирно. Я могу владеть всем, если только оно будет принадлежать всем». На смену полисной самодостаточности приходит автаркия мудреца, и социальные идеалы киников связываются уже не столько с государством, сколько с тем образом жизни, который еще не подвергся порче из-за вмешательства власти.
Разумеется, естественная жизнь «по природе» ассоциировалась прежде всего с первобытно-общинными отношениями, при которых не было таких осуждаемых киниками пороков, как честолюбие и властолюбие, тяга к роскоши, чревоугодие, разврат, суеверность, зависть и т. п. В противоположность лукрециевской положительной оценке развития искусств и ремесел снова распространяется и обосновывается примитивистский взгляд на такое развитие как извращение и зло.
У Диона Хрисостома (речь «Диоген, или О тирании») этот взгляд выражен в концепции «антипрометеизма». Зевс совершенно справедливо покарал Прометея за то, что он дал людям огонь, ибо с этого и начались все человеческие грехи, идущие от изнеженности, от неестественных способов удовлетворения все новых и новых желаний. Природа никого не рождает неспособным к существованию в своей среде, и нужно лишь, подобно животным, довольствоваться тем, что она дает добровольно. Образец для подражания людям дают боги, птицы и звери, живущие беззаботно. Негативный пример представляют тираны — самые несчастные из людей, купающиеся в золоте, но постоянно опасающиеся покушения и утраты власти. Тому, кто, подобно персидскому царю, владеет огромной страной, невозможно будет убежать, даже если он осознает свою вину. И если даже тиран превратился в бронзу или железо, это не спасет его от суда потомков, которые могут разрубить статуи и пустить их на переплавку.
Более чем вероятно, что эти слова относились к римскому «тирану» — Нерону, предпринявшему накануне своей гибели неудачную попытку к бегству. Большинство изображений Нерона после его смерти было уничтожено, а знаменитый «Колосс» уже при Веспасиане подвергся переделке, причем позднее, во II веке, у этой статуи еще дважды заменяли голову, думая, что удаляют изображение Нерона.
«Киническое возрождение», начавшееся в I веке, продолжалось и в следующем столетии. Идеализация «золотого века», осуждение рабства и частной собственности, восхваления «естественной» жизни варваров и животных оставили очень яркий след в произведениях целого ряда авторов II века, в том числе и не являвшихся последовательными сторонниками кинизма. Все это можно найти, например, в речи Максима Тирского «Предпочитать ли кинический образ жизни?», в произведениях Лукиана «Переписка с Кроном», «Сатурналии», «Кроносолон», «Гермотим, или О выборе философии», в диалоге Плутарха «Грилл, или О том, что животные обладают разумом», в сборнике Клавдия Элиана «О природе животных» и т.д.
Согласно выводам И.М. Нахова, в кинических мечтах об идеальном общественном устройстве «как бы сплелись фольклорные легенды о золотом веке, блаженных островах, дальних народах и землях и некоторые современные политические и философские теории, адаптированные киниками (о естественном состоянии, естественном праве, примате “природы”, идеализация древних Афин и ликурговой Спарты и др.)»{36}.
Итак, эволюция политической утопии в Риме имеет довольно сложную историю: начавшись с идеализации Рима-полиса, пройдя через отождествление Рима-империи с космополисом (а императора — с наместником бога, гарантом справедливости на земле), эта утопия в конце концов порывает со всякими надеждами на римское государство (и на любое «земное» государство вообще). Предпочтение отдается теперь действительно вечному и справедливому «вселенскому» государству, полноправными гражданами которого «от природы», со времен «золотого века» являются все без исключения смертные. В душе каждого есть частица такого государства, и путем нравственного самоусовершенствования любой человек способен очиститься от пороков и приблизиться к божеству.
Так политическая утопия смыкалась с оживившимися религиозными исканиями. Прекрасной иллюстрацией этому служит следующий факт: многие авторы, испытавшие влияние стоицизма и кинизма (Филон Александрийский, Плиний Старший, Иосиф Флавий, Дион Хрисостом и др.), увидели в образе жизни иудейских отшельников — ессеев реальное воплощение идеальных принципов жизни «мудреца». Во многом сходную эволюцию — тоже с широким использованием представлений о «золотом веке» — испытала и литературная утопия, не поддававшаяся воздействию официозных штампов.
2. Тяга к экзотике: новое содержание
Что писали в это время литераторы, критически относившиеся к «императорскому счастью»? В Риме во времена Империи довольно широко распространяются рассчитанные на массового читателя романы о чудесных и невероятных приключениях, о человеческом счастье и добродетели, об экзотических странах Востока, где царят совсем иные порядки, чем в странах «Римского Мира».
Один из исследователей справедливо отмечает, что эти произведения «массовой культуры» призваны были компенсировать возникавшее чувство отчужденности, облегчать иллюзорный уход «подданных» от повседневных забот в мир чудесного: «Отсюда повышенный интерес к рассказам о призраках, оборотнях, воскрешениях мертвецов, о вмешательстве богов в жизнь людей в далеких неведомых странах, где могло случиться самое невероятное, об откровениях, снах и видениях, к рассказам об исключительных людях, отличавшихся необычайной красотой, благородством, талантами, о боговдохновенных мудрецах Индии, Эфиопии, Персии, которым якобы открыты тайны мироздания»{37}.
Наибольшее распространение этот жанр получил во II —III веках, когда были созданы «Эфесская повесть» Ксе-нофонта Эфесского, «Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона, «Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена, «Вавилонская повесть» Ямвлиха, анонимный роман «История Аполлония, царя Тирского», «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Метаморфозы» Апулея, «Эфиопика» Гелиодора, «Жизнеописание Аполлония Тианского» Филострата и т.д.
Своеобразной реакцией на этот наплыв фантастических и любовно-приключенческих романов стала блестящая пародия Лукиана «Правдивая история», высмеивающая повествования тех, кто вслед за Гомером описал вымышленные путешествия в Индию, на острова Великого океана и т. п. И хотя в I веке авантюрно-фантастические «бестселлеры», видимо, еще только начинали свое распространение в среде римлян, сама духовная потребность в отстранении от окружающей реальности прослеживается даже в произведениях, написанных в более серьезных жанрах.
Один из примеров этого дает почти не привлекавший внимания историков рассказ Плиния Старшего об острове Тапробана. В этом рассказе мы находим причудливое сочетание элементов «романа-путешествия» и политической утопии, реальных географических сведений и мифологических деталей. Начало рассказа напоминает тот мотив морского путешествия в неведомые страны, который использовался в Античности со времен Гомера и который был весьма талантливо обыгран в романе Ямбула при описании плавания к «Солнечному острову».
Согласно рассказу Плиния, во времена императора Клавдия направлявшийся в Аравию вольноотпущенник сборщика пошлин Анния Плокама был занесен бурей на остров Тапробану, лежащий к югу от Индии (в Античности Тапробаной обычно называли остров Цейлон. — Ю. Ч.). Изучив местный язык и сумев заинтриговать царя Тапробаны рассказами о римской державе, он побуждает направить четырех послов в Рим для установления дружбы.
По прибытии в Рим послы сообщили, в частности, что на их острове находится 500 городов, а между ним и ближайшим мысом Индии лежит остров Солнца. Богатства островитян, по их словам, больше римских, но у римлян больше частные состояния. На острове нет ни рабов, ни судебных тяжб, цены на хлеб всегда одинаковы, а жители не спят утром допоздна и живут в среднем до 100 лет. Народ избирает своим царем старца, который обязательно должен быть милосердным и не иметь детей-наследников; его власть, кроме того, ограничивают 30 выборных управителей и еще 70 судей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Древний Рим: мечта о золотом веке"
Книги похожие на "Древний Рим: мечта о золотом веке" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Чернышов - Древний Рим: мечта о золотом веке"
Отзывы читателей о книге "Древний Рим: мечта о золотом веке", комментарии и мнения людей о произведении.