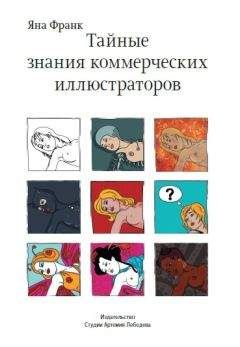Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Описание и краткое содержание "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).
На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.
Крым. Миндаль, 1937.
На первом плане ветви цветущего белым миндаля, правее красновато-охристые «волны» прибрежной земли; дальше — узкий белесый рукав вдавшейся в берег бухты и за ней вздымающиеся к небу, тающие в небе горы. Колорит, близкий другим вещам этого года, — серебристо-зеленый, глухо-голубой с вкраплениями охристо-красного, но как-то особенно могучи, жизненны и весомы мазки, строящие, организующие и выявляющие форму.
Рисунки: «Генуэзская крепость. Судак, 1937». Округлые, спокойно-неподвижные камни гор вздымаются в небо, лепятся друг к другу могучими серыми глыбами, вечными как сама земля — а справа на одном их взгорий — древний человеческий «след» — остатки генуэзской крепости с вертикалью четырехугольной серой башни, словно бы естественно выросшей из скалы.
«Тихое море. Судак, 1937». Бухта с грядой невысоких холмов на дальнем берегу, нагромождением камней на первом плане и темной скалой, преграждающей выход к морю. Строгий, очень простой и скупой рисунок, сделанный точными четкими линиями и серебристой, местами чуть смазанной штриховкой не слишком мягкого карандаша. Необыкновенно сильно решено, «уложено» пространство спокойной, лишь слегка рябящей бухты, налезающих друг на друга могучих обломков скал, гористой дали и неба.
Чем сделаны, как достигнуты эта глубина, эта «стереоскопичность», по определению Купреянова, усматривающего в графике Митурича чуть ли не «обманки»? Никакого даже подобия натурализма, фотографизма нет и в помине, рисунки артистично-свободны, технические возможности карандаша выявлены с максимальной художественностью, тем мастерством, которое заставляет коллег-художников утыкаться носом в рисунок, завистливо восклицая: «Как это сделано!»
Май: «Мама и отец принялись за работу. За рисунок, живопись. Я же наслаждался открывшимся новым миром и, конечно, — ружьем.
Изрядно обгорев на солнце в первые дни, все мы стали покрываться настоящим южным загаром. На каменистой почве очень скоро туфли мои сгорели. Кожа на подошвах отвердела, и я стал бегать босиком. Скоро обзавелся и закадычным другом Васькой и, прихватив ружье, а Васька удочки, мы отправлялись на добычу. А для оправдания кровожадных нападений на птичек брали с собою алюминиевую тарелку, если не забывали — кулечек соли и спички.
И всех пойманных рыбешек и подстреленных мелких птичек жарили на алюминиевой тарелке и грызли превратившиеся в сухари тушки.
Гора Алчак замыкает судакскую бухту. И если где-то в средней части пляжа, где дома отдыха и санатории, виднелись группки купальщиков, то у Алчака всегда было пустынно. А уж за Алчаком простиралась Капсель — мертвая бухта, где в те годы не было ни души. Там, в Капсели, отец делал рисунки с обнаженной мамы. Там и купались.
Покрытая скудной солончаковой растительностью, холмистая равнина Капсели простиралась до мыса Миляном, до которого по берегу, как говорили, восемнадцать километров. Туда-то, под Миляном, и отправились мы с Васькой с ночевкой.
Двинулись в жару, налегке, прихватив спички и немного съестного. Не спеша, купаясь, забрасывая то тут, то там удочки добрались наконец до круч Милянома. И поудив на закате, отправились на ночлег. С заходом солнца горячий песок начал остывать, и скоро мы уже жались друг к другу, дрожа от холода. Где-то близко завыли, затяфкали шакалы. Мы же, окончательно замерзнув, решили греться в море. Вода действительно показалась теплее. Но и в море согреться не удалось. Ночь была лунной, и мы начали собирать по берегу сухие корешки и щепки, выброшенные на берег волнами. Развели костерок и спасались им до утра. До сих пор помню животворное тепло первых лучей восходящего солнца. Согревшись, мы прилегли и тут же уснули, наверное до полудня, когда раскаленные солнцем забрались спасаться, теперь уже от жары, в море. По счастью, научившись в Солотче плавать, в Судаке я плавал не хуже других мальчишек, и нырял, и прыгал с высоких камней в воду. Словом — освоился.
А в Судак вслед за отцом и Захаровым приезжали еще друзья-художники — приехали Свешниковы с сыном Володей, Моля Аскинази, Юрий Корвин. Они поселились в немецкой колонии, на другом краю бухты, под горой Сокол, у подножия Генуэзской крепости.
Считается, что судакская бухта от Алчака до Генуэзской крепости около трех километров. Работая с утра всякий в своих угодьях, все друзья сходились у середины залива, у чебуречной Джинибека.
Там, с чебуреками и рислингом, вели беседы, конечно же, снова об искусстве. Купались в теплом море и снова согревались рислингом и чебуреками.
По полстакана вина перепадало и нам с Вовой Свешниковым. А порою, оглянувшись на маму, дядя Паша подливал и побольше.
Мы становились веселыми и ловкими, кувыркались на песке, тормошили и задирали взрослых, которые охотно дурачились с нами. Шутили. Расходились уже в темноте, пытаясь узнавать, вспоминать названия звезд, созвездий.
Однажды, бродя как обычно в окрестностях дома, я увидел дядьку, который нес за лапки, как носят кур, — двух воронят. Не ворон, а черных воронов. Почему-то я сразу узнал их, хотя прежде видел разве что на картинке.
Каким-то образом у дядьки их выпросил и водворил на нашей веранде. Поправив перья, они стали громко просить еды. А поев, успокоились, устроились на веранде. На веранде лежала открытая книга — мое чтение „Тиль Уленшпигель“. Видимо, ветерок пошевелил страницы, и новые питомцы изрядно потрепали книгу своими клювами. Книга эта со следами их клювов и теперь сохранилась у меня.
А за подвиг этот нарекли их Тиль (был побольше, покрепче) и Нели — посубтильней.
Став совсем ручными, воронята дополнительно скрасили нашу жизнь. Научившись летать, они провожали меня в моих охотничьих прогулках. И мелкая моя добыча теперь доставалась им. А по вечерам усаживались на рамы открытого окна и пытались ловить клювами клубы дыма отцовских папирос.
Тогда в Крыму жили татары, но жили они не у моря, где-то в горах. И вот изредка к нам являлся татарин по имени Исмаилис. Он приносил яйца, баранину. Бывали с ним и казусы, так, купив у него яйца, мама разбила одно, и оно оказалось тухлым. Разбила другое — тоже. Смущенный Исмаилис начал разбивать яйца одно за другим, и вся партия оказалась тухлой. Но это был случай из ряда выходящий. А было так — идет к нам Исмаилис, несмотря на жару, в своей лохматой бараньей шапке, и вдруг озорник Тилька спикировал и схватил шапку с головы. Ох, и напугался же, даже огорчился Исмаилис.
Бывали шутки и посерьезней, когда дальние соседи жаловались на пропажу цыплят, а садоводы — на пропажу овощей и фруктов. Но мы любили и защищали наших питомцев. Паря высоко в небе, их родичи заметили соплеменников, кружились и звали их гортанными кликами. И наши летели к ним. Гостили долго — и два, и три дня. И вдруг внезапно падали с неба с отчаянными воплями: есть, есть. Несытно, видать, бывало в гостях.
Однажды отец писал на взгорке. Налетел Тилька и схватил из этюдника тюбик охры. И как ни увещевал его отец, он, отлетев на приличное расстояние, расклевал тюбик и охру съел. Что же будет с Тилькой? Как его лечить? А ничего с ним не было. Как ни в чем не бывало.
Но вот к осени (а мы жили там чуть ли не четыре месяца) по степи стали бродить охотники. В поисках перепелок. Сели такие охотники у нас на взгорке есть арбуз. Тилька к ним — попрошайничать. Любил очень арбуз. А тут бах… и не стало Тильки. Не успели отгоревать по Тильке, сходная участь настигла и Нельку. Так и окончилась короткая их жизнь и наша с ними дружба. Мама сочинила о них рассказ, гораздо лучше моего»[306].
П.В.: «У нас выросли на даче птенцы воронов. Вера окрестила их именами Тиль и Нели. Трогательная детская история этих жизней описана ею абсолютно правдиво в рассказе, посвященном Маю»[307].
«…Памятью веков врезалась гора Алчак в море, замыкая Судакскую бухту слева. Зоркими глазами воронов, гнездующих на ее скалах, смотрит она на мир. Много видели старые вороны…» С большой художественной силой и подлинным трагизмом поведала Вера о веселых, радостно-деятельных красивых птицах, так украшавших их судакское лето, об их горестном, таком жестоко-ненужном конце. «Всем было тяжело, как будто умер кто-то из семьи… На перилах, свесившись головой вниз, лежало тело Тиля, освещенное лунным светом…» [Днем я нарисовал его, хотя мне было очень тяжело это сделать, — вставил Май Петрович в рассказ матери, публикуя его — спустя 63 года после того лета в Судаке — в сборнике «Вера Хлебникова. „Что нужно душе…“ Стихи. Проза. Письма».]
Май Митурич. Убитый Тиль. 21/ VIII, 1937. Черный силуэт мертвой птицы с откинутым крылом и поникшей ослепшей головой, огромным черным клювом. Что-то очень человеческое есть в этой фигурке, нарисованной двенадцатилетним мальчиком с истинно митуричевской точностью и верностью глаза.
«…Несколько маховых перьев и дерзко изорванная крепкими клювами повесть о „Тиле Уленшпигеле“ в голубоватом, напоминающем о море переплете, — вот все, что осталось от наших любимцев…»[308]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Книги похожие на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Отзывы читателей о книге "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых", комментарии и мнения людей о произведении.