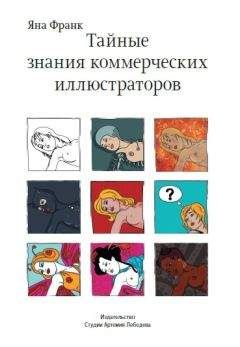Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Описание и краткое содержание "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена замечательным художникам: Петру Васильевичу Митуричу, его жене и сестре великого поэта Велимира Хлебникова Вере Владимировне Хлебниковой и их сыну Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову. Основу книги составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма).
На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от начала XX века до 1956 года (даты смерти П. В. Митурича). Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.
М. Ларионов (вместе с Н. Гончаровой, О. Розановой, В. Татлиным) участвовал в оформлении книги А. Крученых и В. Хлебникова «Мир с конца».
С В. Хлебниковым и А. Крученых сотрудничал и К. Малевич. В 1913 году он сделал оформление к сборнику В. Хлебникова, А. Крученых и Е. Гуро «Трое» — грубая, словно глиняный колосс кубистическая фигура в центре обложки; над ней сломанные, как бы перерубленные буквы ТРОЕ, внизу курсивом — слева «В. Хлебниковъ» и «А. Крученыхъ», справа через огромную вывернутую запятую «Е. Гуро».
О. Розанова вместе с Н. Кульбиным, Н. Гончаровой и самим А. Крученых иллюстрировала книгу А. Крученых и В. Хлебникова «Бух лесиный». Ее рисунки, всегда очень контрастные, резко черно-белые, заполняющие почти в край все пространство композиции, использующие живописность литографского карандаша, сохраняют свою индивидуальность и не теряются даже рядом с К. Малевичем.
Ранней — начала 1910-х годов — «футуристической» книге вообще была свойственна острая индивидуальность каждого из ее создателей. Никто никому не подчинялся, никто не изменял своей графической манере ради цельности и художественного единства. Свойственно ей было и то, что художники участвовали в ее создании в полной мере наравне с поэтами. Иногда трудно сказать, кто из них преобладал: иллюстрации идут иногда подряд, оттесняя текстовые страницы, «перетягивая» на себя все внимание читателя и явно не заботясь о соответствии с текстом. Книга оказывалась, в первую очередь, зрелищем, тем более что и текст, часто включенный в рисунок, сам к нему приближался, образуя на странице своеобразные фигуры, ломаные столбцы, разлетающиеся строки, отдельные буквы.
Ближе к задаче «прочтения» стихов и их образной интерпретации стоял П. Филонов в чрезвычайно интересном оформлении стихотворения В. Хлебникова «Ночь в Галиции», опубликованного в виде литографированного приложения к «Изборнику» В. Хлебникова. Полосная иллюстрация: заполняющая весь лист сложная композиция из причудливых диких, словно бы первобытных идолов, рук, ног, мелких фигурок, напоминающих рисунки в пещерах — все сдержанно-серое по тону, с тонкими градациями пятен и штрихов, с легкими сплошными контурами и словно бы проступающими из бумаги точками, штрихами. И совсем иная, резко черно-белая страница с напоминающим линогравюру контрастным, вписанным в черный прямоугольник рисунком и рисованным текстом под ним — грубовато-черными «письменами», чередующимися с напоминающими иероглифы знаками, как бы включенными в звуковую игру поэтического языка:
Русалки поют:
Иа ио цолк
Цио иа пащо!
Пиц пацо!
Пиц Пацо!
Ио иа цолк![102]
Петр Митурич не только смело вступил в эту блестящую когорту мастеров, но и выдвинулся из нее на несколько шагов вперед. Если его «предшественники» все-таки в первую очередь выявляли себя «по поводу» поэзии Хлебникова и Крученых и их обращение к ним было более-менее разовым, то Митурич весь отдал себя Хлебникову, дал зримую пластическую форму поэзии Хлебникова, создал своего рода феномен — книгу Хлебникова-Митурича. Эта работа дошла до 1925 года — Митурич преданно и верно уже после смерти Хлебникова продолжал, пока это хоть как-то дозволялось, нести читателю образ поэзии Хлебникова — в сборнике «В. Хлебников. Стихи» (М., 1923), в иллюстрациях к поэмам Хлебникова 1924–1925 годов, в афише к вечеру Хлебникова 1924 года, в рисунках 1922–24-х годов к его стихам.
Рукописные книги Хлебникова-Митурича — даже не синтез, но слияние искусств, «прорастание» одного искусства в другое, попытка создать новую форму человеческого общения, а точнее, вернуться к чему-то непреходящему, вечному; такому, что было, быть может, до «вавилонского столпотворения», когда люди говорили на одном языке, понимали друг друга на уровне подсознания.
П. Митурич. К стихам Велимира Хлебникова, 1922–1924«Художники мира! — взывал Велимир Хлебников к тем, в ком надеялся найти понимание и сочувствие своим полетам духа. — Мы долго искали такую, подобную чечевице, задачу, чтобы направленные ею к общей точке соединенные лучи труда художников и труда мыслителей встретились в общей работе и смогли бы зажечь и обратить в костер даже холодное вещество льда. Теперь такая задача <…> найдена. Эта цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире…»[103]
«На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли. <…> Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки.
Мы сделали часть труда, падающего на долю мыслителей, мы стоим на первой площадке лестницы мыслителей…»[104]
П. Митурич. Заставки, 1922–1924Хлебников искренне верил, что видимое ему с «лестницы мыслителей» есть нечто универсальное, единое для всего человечества; что «„В“ на всех языках значит вращение одной точки кругом другой, или по кругу, или по части его, вверх и назад; что „Ч“ означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого. <…> Он создает „дерево особенной буквенной жизни“ где „В“ кажется в виде круга и точки в нем; <…> „Ч“ в виде чаши; „Эс“ — пучок прямых. <…> Но это ваша, художники, задача изменить или усовершенствовать эти знаки, — призывает Хлебников. — Если вы построите их, вы завяжете узел общезвездного труда»…[105]
Хлебников нашел душу, созвучную своей душе; обрел художника, откликнувшегося на его призыв, отдавшего всего себя великому, неисполнимому, фантастическому строительству новой «вавилонской башни» всемирного языка; дерзостному прорыву в сферы, где доныне властвовал только Бог, посчитавший нужным смешать языки и разобщить народы. Хлебников поправлял Бога.
Сотворчество с Митуричем дало именно то слияние слова и изображения, ту абсолютно новую форму, о которой мечтал Хлебников; о ней он по справедливости мог бы сказать: «Гамма Будетлянина, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца»[106].
«Словотворчество» Хлебникова не было абстрактной игрой звуков — это было, как ему представлялось, насущно необходимое для России дело, научно и теоретически обоснованное особенностями русской истории, русского языка:
«И хитроумные Евклиды и Лобачевские не назовут ли одиннадцатью нетленных истин корни русского языка? В словах же увидят следы рабства рождению и смерти, назвав корни — божьим, слова же — делом рук человеческих.
И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умничество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная: права словотворчества?»[107]
Хлебников отождествлял себя с Лобачевским; поэма «Разин» начинается палиндромом: «Я Разин со знаменем Лобачевского логов. Во головах свеча, боль, мене ман, засни заря». Если Лобачевский, пересмотрев так называемую 11-ю аксиому Евклида, дал толчок к построению геометрических систем, имеющих дело с пространствами, совершенно не похожими на обыкновенное пространство, и этим указал на возможность логического мышления, имеющего объектами вещи, находящиеся вне времени и вне нашего обыкновенного пространства, то Хлебников, как ему казалось, положил начало новым языковым системам, фактически — новому мышлению, вне привычных понятий и структур. Каждая строка поэмы — палиндром, «перевертень»: «С-е-т-у — й — у-т-е-с»
Сетуй утес
Утро чорту
Мы низари летели Разиным
Течет и нежен нежен и течет
Волгу див песет тесен вид углов
Олени синело
оно
Ива пук купавы
Лепет и тепел
ветел летев
топот[108]
«„Заумь“ у Хлебникова чаще всего осмысляется или общим замыслом и настроением контекста, в который она включена, либо формально-грамматическими аналогиями, помогающими отнести то или иное звукосочетание к сходным грамматическим категориям»,[109] — писал друг Митурича Николай Леонидович Степанов, вместе с Митуричем издававший относительно полное собрание сочинений Хлебникова.
Нет сомнения, что Митурич в своих «хлебниковских» вещах не просто «иллюстрировал» словотворчество поэта, но искал аналогичные корням слов «графические корни», как бы основы, «звуки» изобразительного искусства, из которых творил формы, и абсолютно новые, и ассоциативно близкие реальным формам природы и вещей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Книги похожие на "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Чегодаева - Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых"
Отзывы читателей о книге "Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых", комментарии и мнения людей о произведении.