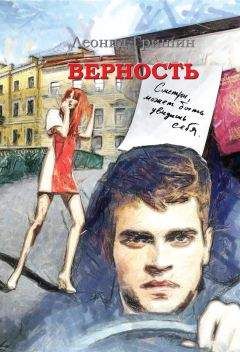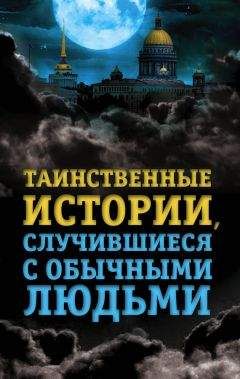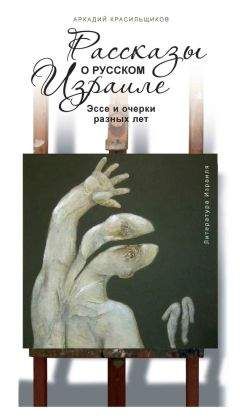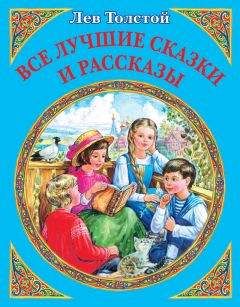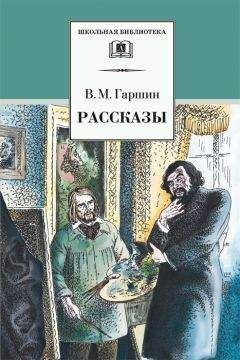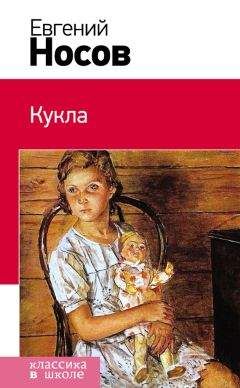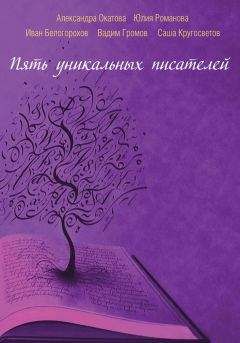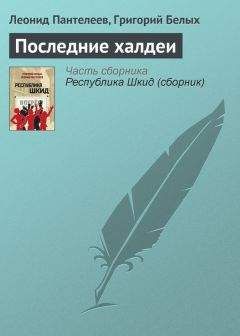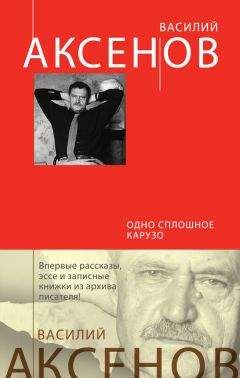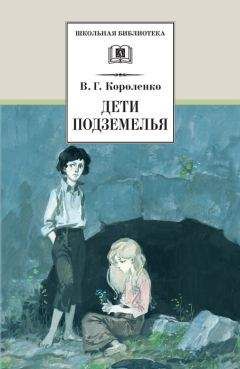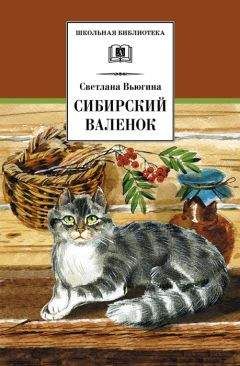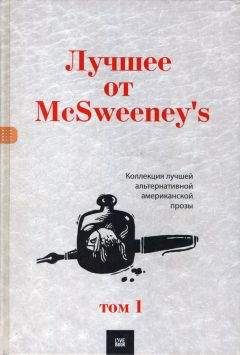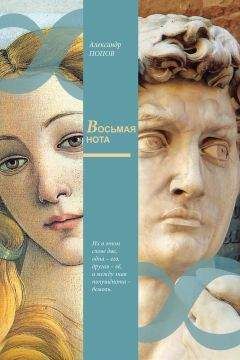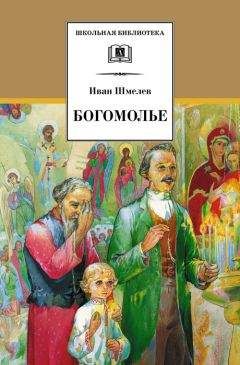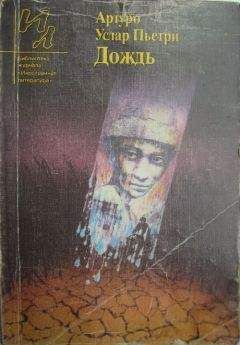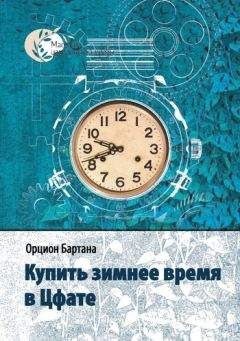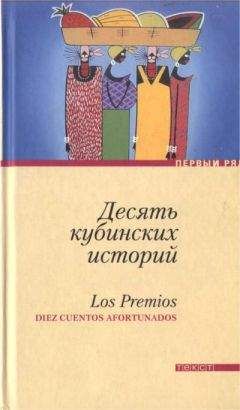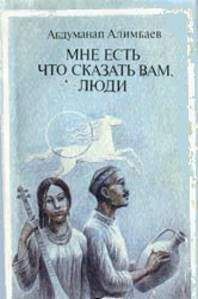Анатолий Бухарин - Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии
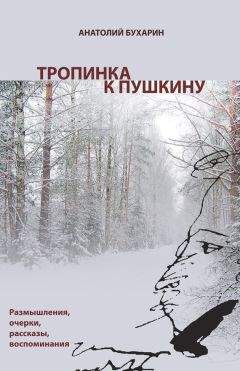
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии"
Описание и краткое содержание "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии" читать бесплатно онлайн.
В итоговой книге Анатолия Андреевича Бухарина (1936–2010) – литератора, историка, исследователя традиций отечественного либерализма, пушкиниста, яркого человека непростой судьбы – представлены разножанровые произведения (эссе, очерки, рассказы, воспоминания и т. д.), написанные в последние полтора десятилетия и объединенные неповторимой авторской интонацией. Это своего рода «страстные размышления», «взволнованные думы», отражающие итоги постижения нашим современником сложных перипетий отечественной истории и культуры.
Уникальное единство художественного и исторического контекстов, естественное для Бухарина-мыслителя, делает книгу заметным явлением современной русской прозы и историографии.
– Двадцать четвертого июня 1812 года, когда старый Неман еще курился клубами тумана, над его темными волнами по четырем понтонным переправам, взрывая тишину, ринулись французские дивизии. А когда солнце взметнулось в синюю высь над излучиной реки, где проходила историческая минута, по старинным литовским трактам и глухим лесным проселкам стремительно понеслось половодье наполеоновского воинства. То, как скажет позднее Лев Толстой, «силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию»…
Мы ошалело строчили, а маэстро, не переводя дыхания, погружался в поток библиографии. Он никогда не жалел времени на изложение фактов и первоисточников, полагая, что студент от корки до корки должен прочесть и воспоминания, и исследования, ибо без них нет полноты исторического знания.
Однажды, золотым воронежским вечером, слушал я его лекцию о западниках и славянофилах, а он, по обыкновению сделав подробный историографический и библиографический анализ темы, заключил ее знаменательными для моей судьбы словами:
– Тема почти не изучена, запутана и ждет своего исследователя.
У меня екнуло сердце: «Вот оно!»
К тому времени я уже начинал увлекаться историей «Молодой Германии» – общественно-политического движения Пруссии в эпоху наполеоновских войн, но Шевченко приглушил во мне «немецкий интерес» и развернул лицом к России.
Позднее меня будут часто спрашивать о причине жгучего интереса к истории русского либерализма: «Уж не купеческого или дворянского рода вы, молодой человек, а?!» Я честно и откровенно говорил о своем крестьянско-казачьем происхождении, рассказывал рабочую биографию, но вопрошатели с сомнением качали головами.
Вопросы нелепые и смешные. Если бы судьба исторической науки определялась только сословным или классовым интересом, она давно перестала бы существовать. История КПСС – убедительное тому доказательство, ибо, как писал Бердяев, «нет классовой истины, а есть классовая ложь». Нелепы и смешны такие вопросы еще и потому, что каждого исследователя фашизма или анархизма с подобных позиций следует подозревать в фашистских либо анархистских убеждениях!
Михаил Минович был личностью незаурядной. Сын раскулаченного, он полной горстью хлебнул сталинского лиха, пережил страшный голод девятьсот тридцать первого, прошел дорогами войны от Сталинграда до Берлина и выучился на вдовьи копейки. Честный был – до беспредела, и очень осторожный. Помнил и тридцать седьмой, и сорок девятый. В сущности же, был «неприслоненным» и в глубине души не только не принимал советский режим, но и ненавидел его. Однако надо было хорошо знать Шевченко, чтобы не обманываться на его счет.
Он, как и Москаленко с Лысцовым, в совершенстве владел приемом исторических параллелей. И когда мы слушали его рассказы о кочующем деспоте Николае Первом, о маскарадных реформах последекабристской эпохи, то переглядывались и раздували щеки: в памяти каждого всплывал шарообразный лик Никиты Сергеевича Хрущева, бестолково колесящего по городам и весям Страны Советов.
Любимой темой Шевченко была история падения крепостного права. Здесь параллели были настолько очевидны, что сопоставить положение крепостных романовской России с жалкой участью советского крестьянства не составляло никакого труда.
Вообще, недосказанность была общим стилем историков приснопамятного времени. И неудивительного было время «мертвого сезона» исторической науки. Самые талантливые, честные ее представители уходили в поисках свободы самовыражения в глубь веков, но, как правило, и там карающая десница серых кардиналов ЦК настигала их.
Шевченко был доброжелательным, любил профессию педагога и не жалел времени на воспитание «в чину учимых». Но Боже мой, какой он был педант!
Первую курсовую я писал под его руководством. Он придирался к каждому слову, к каждой фразе, требовал документального подтверждения цифр, высказываний, и, только отфильтровав каждую страницу, дал добро на защиту. Иногда я ревел белугой под прессом жестоких требований, но всякий раз, когда заикался о дефиците времени, о том, что не могу прочесть всех источников, он оставался непреклонен и говорил:
– В вашем дипломе не будет написано о том, что вы закончили вечернее отделение, а ваши будущие студенты смогут только посочувствовать вам, но не простят дилетантства. – И я, вздыхая, проклиная все на свете, плелся дорабатывать «курсач».
Теперь, спустя тридцать лет, я с благодарностью вспоминаю своего учителя и без претензий на тщеславие могу сказать: «Никто и никогда не упрекнул меня в легкости и поверхностном отношении к делу».
Изучение истории КПСС, философии, политэкономии, научного коммунизма мы воспринимали как барщину. Терпели. Да и не было среди преподавателей этих предметов ни талантливых, ни честных. Откуда бы они взялись, если служили ложной идее и античеловечному режиму? Это во-первых. А во-вторых, им не разрешали делать ни шага влево, ни шага вправо.
Правда, среди философов педагоги-личности все-таки встречались. Запомнился Александр Второв, который стал в университете предметом шуток: никак не мог защитить диссертацию. И только немногие понимали истинную причину: Второв не хотел лгать, ибо был слишком умным и слишком порядочным.
Кафедрой истории досоветского периода руководил профессор, доктор исторических наукЛазарь Борисович Генкин.
Лысый, крупный старик с породистым носом, он, постукивая палочкой, медленно ходил по факультетскому коридору, любезно со всеми раскланивался и каждого студента называл только на «вы». Курсы его я не слушал, а столкнулся с ним на научной студенческой конференции в 1966 году.
Генкин был председателем конференции. До сих пор не могу забыть того извинительного тона, с каким он говорил о студенческих докладах, посвященных проблемам всеобщей и древнерусской истории. Он отказывался их комментировать, прося сделать это своих коллег с соответствующих кафедр. Я был поражен. Как? Человек блестяще образованный, настоящая ходячая энциклопедия, не решается оценить доклад первокурсника о Катилине?!
Аэто ведь был урок всем нам – урок уважения пусть к незрелому, но самостоятельному суждению, урок преклонения перед компетентностью!
Когда мне предоставили слово, Лазарь Борисович повернулся в мою сторону и внимательно слушал все двадцать минут. Я рассказывал о истории изучения советской историографии западничества и славянофильства.
Сейчас я очень невысокого мнения о своем первом научном опусе. Мне даже стыдно вспоминать то выступление, перенасыщенное вульгарной социологией. Правда, я был искренен и не ведал, что творю. Громил налево и направо советских историков за искажение исторической правды о светлых личностях Хомякова, Грановского, Кавелина, Боткина. Откуда мне было знать, что дело тут заключалось не в неспособности ученых по достоинству оценить ранних русских либералов-гуманистов, а в идеологической монополии КПСС – той монополии, которая «выселила» из истории отечества и либералов и монархистов, оставив в ней только революционеров? А Генкин не только понял меня, но и поощрил. Это была самая светлая минута в моей жизни. Ни до, ни после такой мощной человеческой поддержки я не встречал.
Я ничего сначала не понял и искал глазами счастливчика, об аналитическом даре и чувстве истории которого говорил профессор. И только когда меня толкнули в бок и сказали: «Это же о тебе он говорит!» – я «прозрел» и чуть не сполз со стула.
Конечно, теперь я понимаю: то была поддержка не столько меня лично, сколько того направления в науке, с которым я связал свою судьбу. И все же каждый раз, когда жизнь перекрывает мне кислород, я вспоминаю ту знаменательную для меня речь Генкина – и снова живу, снова верю в себя.
Согласен на сто процентов: надо быть строгим и даже жестким учителем. Но если педагогическая требовательность обрезает крылья, кому она нужна? Лазарь Борисович без всякого труда мог камня на камне не оставить от моих ученических откровений, ибо то был карточный домик – не более, но он поддержал меня, вернее, мой подход, и тем самым приблизил час моего научного самостояния. Мудрый наставник ставит ученика «на крыло», а не бросает на землю.
В январе 1968 года я получил преддипломный отпуск и на четыре месяца ушел с авиационного завода. Из всех ранних русских либералов западного и восточного толка я, сам не знаю почему, выбрал Василия Петровича Боткина и посвятил ему дипломное исследование.
Понимал: карты брошены, назад пути нет. Поехал в Москву, а потом – в Ленинград. Работать в книгохранилищах.
Познакомился с фондами Боткина в Центральном государственном историческом архиве (бывший ЦГИАЛ), в рукописных отделах Щедринки и Ленинки, в отделе письменных источников Государственного исторического музея СССР и в Центральном государственном архиве литературы и искусства.
Благодарен судьбе за удивительные встречи с историками либерализма и буржуазии: С. С. Дмитриевым, Н. Л. Сладкевичем, К. С. Куйбышевой и другими, – о чем пишу в своих воспоминаниях «На Пречистенке в архиве» и в очерке «Совесть русской истории».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии"
Книги похожие на "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Бухарин - Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии"
Отзывы читателей о книге "Тропинка к Пушкину, или Думы о русском самостоянии", комментарии и мнения людей о произведении.