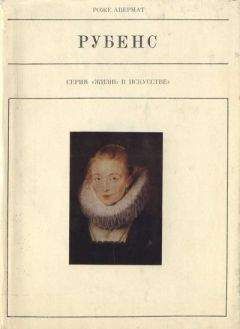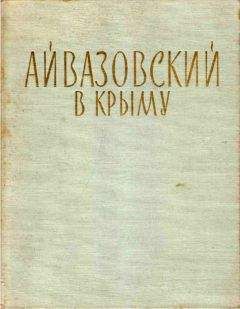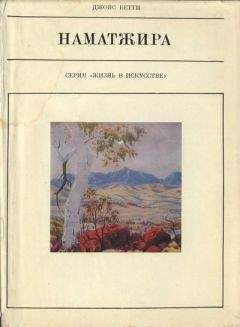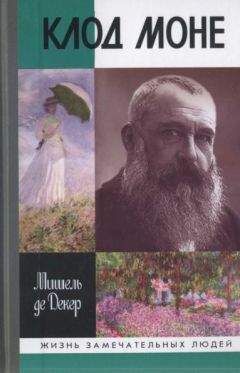Татьяна Маврина - Цвет ликующий

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Цвет ликующий"
Описание и краткое содержание "Цвет ликующий" читать бесплатно онлайн.
Настоящая книга — первое издание дневников замечательного, самобытного художника Татьяны Алексеевны Мавриной (1900–1996), лауреата Государственной премии СССР, международной премии им. X. К. Андерсена и др. Живописец, график, иллюстратор книг, она обладала еще и незаурядным литературным даром, о чем свидетельствуют ее искусствоведческие этюды, включенные в эту книгу. Вместе с дневниковыми записями они дают читателю уникальную возможность проникнуть во внутренний мир художницы, составить представление о своеобразии ее творческой натуры.
Так было и 10 и 24 марта, не хотелось даже писать Лавру. Снег и деревья были интереснее.
Весеннее солнце выхватило стволы тополей до ярко-желтого, померкли даже «ясны звездочки» на куполах Успенского собора. Бугры, дома, люди и тени на снегу.
…Лето. Облаков-то было много, но я выбрала только два, чтобы были темные силуэты на белом и светлые узоры на темно-голубом.
…По ощущению праздничности и ликования на Лавру похож лишь один Печерский монастырь под Псковом. Но тот не на горе, а в глубоком овраге, что и необычно и таинственно. Когда мы подъезжали по бугристой красной глине с валунами и соснами к городку, ничего сверхъестественного в верхушках башен с флюгерами, в жидких головках церковок псковского типа не было. Но вошли в ворота и обогнули храм — от неожиданности ахнули и просто оцепенели. Несмотря на холод, замерли перед оврагом, заполненным блестящими, золотыми, красными, звездчатыми, зелеными, белыми, очень ухоженными драгоценностями. Между ними дорожки, одинокие монахи. Деревья, галки, вороны и розовое небо. Так все в один голос и сказали: «Драгоценный ларец». Но этот ларец в «трехсотенном государстве». Загорск же от Москвы совсем близко.
«Последняя остановка автобуса». Так я назвала эту картинку в 1958 году, еще не зная, что если пойти вслед одиноким пешеходам с сумками, то попадешь в XVII век, увидишь то, чем могла быть когда-то Лавра, — село Благовещенское, за полями, за холмами, всего километра два.
В 1962 году мы так и пошли с Шурой С. Голые выгоны, одинокие люди. Обернулись — Лавра: блестящая груда разноцветных камней или елочных бус. За последней горкой показалась и желанная церковка и само сельцо, маленькое, расположенное по-старинному, «четверообразно» вокруг двух прудов и этой деревянной церковки XVII века.
И необычное расположение, и пруды, и старые деревья, и старые бревна, и все увиденное настроило нас очень восторженно. День холодный, осенний, с зеленым небом. Люди будто и наши сегодняшние, а вроде бы и не те, а из древних времен. Вот этот старик, который смотрит на нас невидящими глазами, рыжий, ражий конь, мальчишки на коньках на прозрачном льду пруда, может, у них и коньки-то деревянные, раскрашенные, с рыбьей мордой на носике, какие я видела в музее в Городце? И вечные бабы с ведрами — «богини-водоноски», каких обессмертил И. Грабарь. Все они нас не видят, привыкшие к туристам, заняты своим делом, от этого и кажутся так далеко, лет за триста. Даже подъехавший грузовик их не приблизил.
А наверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
Городецкая живопись[18]
Некрасов написал про Волгу, что она шла — не текла, не бежала, а просто шла.
Шла Волга,
а за Волгою
Был город
небольшой…
Когда подумаю про Городец за Волгой, обязательно всплывает: «Шла Волга…» — хотя эти строчки Некрасова к Городцу никакого отношения не имеют.
Старая городецкая живопись на деревянных деревенских вещах, больше всего на сиденьях от прялок — донцах, сохранила, если можно так сказать, именно этот неспешный темп движения большой реки. Кисть городецкого художника не бежит быстрее мысли, как соседней золотой хохломской ковровой росписи, не застаивается от напряжения и старания, не завихряется «в дымах» и «плавях», в комариным жалом выписанных орнаментах, как в Палехе, а идет плавно, как Волга, не слишком быстро и не слишком медленно, от возможностей темперной, а чаще клеевой краски, мазка или «тыканья» сухим грибом-дождевиком по слегка загрунтованной доске.
Несмотря на светские, часто просто трактирные темы, городецкие вещи — на уровне «спокойной живописи». У меня они висят рядом с древнерусскими иконами и не делают беспорядка, не нарушают строя, веками выработанного нашей темперной живописью на дереве. Они как бы завершают или продолжают это искусство. В них выплыло (совсем, может, неожиданно, но это видно очень ясно, когда они висят рядом — иконы и донца) все веселое и языческое, народное, что таилось веками в церковных образах.
Сама техника у них проще иконной. Подготовка доски и назначение вещи тоже проще. Нет больших тем мыслей, как в иконах. Их темы незначительные, разговористые. Самое интересное в этой живописи — ее завершение, «оживка». Закончить, поставить точку, много белых точек, штрихов, линий; не для светотеневой моделировки, а просто для красы-басы. Иногда так много и так густо наложена эта оживка, что хочется потрогать ее руками, как дорогое шитье с жемчугом. Одно донце мы так и называем «жемчужным».
По красоте цветовых пятен и этой оживки можно ставить отметки деревенским мастерам. У кого сочно — пять с плюсом, у кого вяло — на троечку. Делают не для себя — на продажу. Это промысел, в котором, надо думать, была и корысть — больше понравиться, лучше продать, и соревнование, и спешка. Но спешка не вредит.
Пишут, что деревенские художники делали до четырех тысяч донец в год одной семьей. Меня это совсем не удивляет. Во времена Ивана Грозного царские изографы, иллюстрируя многотомный Летописный Свод, делали тысячи более сложных рисунков за очень короткий срок; а храмы расписывались фресками в одно лето, мы бы сказали: за сезон. Получалось все равно чарующе хорошо.
Мазки у городецких мастеров разные: занавески писали широко, окно — сплошь черное, даже как-то аккуратно черное (иконное наследие), клетки пола — длинными линиями, рамки и их знаменитые картуши — без перерыва, как рука возьмет, листья — движок кисти с тонким концом. У них нет так называемой тонкой работы миниатюристов-мелочников. Мне всегда приходит на ум, когда восхищаются тонкой работой, совсем невыгодное для живописца сравнение с часовщиком.
Как бы ни была тщательна работа художника, все равно рука часовщика, ювелира или хирурга, делающего до двадцати швов в живом глазу, несравненно искуснее. Разве их перещеголять живописцу? И не обязательно быть лесковским Левшой. Городецкие мужики за тонкостью и не гнались. Но сколько нужно любви и простодушия, чтобы удар кисти был не слишком замысловатый, не слишком сухой и скучный, в меру ярок, в меру лих, в меру скромен и выражал положенное. Еще давно сказано, что всякую вещь красит мера.
Композиции их всегда замкнуты, изолированы и как бы продолжают иконные традиции. Например, тема трапезы. В иконах Троицы Ветхозаветной обрезана изгибающимся или прямым столом средняя фигура ангела, а две боковые, обрамляющие в рост, или срезаны все три ангела.
На донцах: средняя фигура кавалера в сюртуке или группа пирующих также обрезаны столом (овальным, с подборами скатерти, как делали еще в XV веке на миниатюрах), две боковые, чаще дамы в платьях с фижмами, с жемчугом в волосах, тоже обрамляют стол. На столе и там и тут порядок.
Пир этот такой же чинный, как и трапеза ангелов, хотя и происходит где-нибудь в трактире с вывеской «Разгуляй», или «Встреча друзей», или в дворянской комнате знаменитого ярмарочного заведения Ермолаева, а не под библейским Мамврийским дубом.
Я видела в детстве не у «Старого Макара на желтых песках», а уже на Стрелке в Нижнем Новгороде Макарьевскую ярмарку со всем ее утомительным безвкусием, шумом, треском и блеском. А наш либеральный дядя Аким Васильевич Чекин водил нас даже в трактир для модного тогда демократизма. Был и орган, и кустодиевские чайники, и барыньки.
На картинках же городецких мастеров весь этот трактирный гам превратился в благолепное пирование. Ловко слаженные цыганские хоры с красивым веером юбок и черными волнами причесок. Обнимающиеся парочки, застывшие в классическом выразительном бесстрастии — «возлюбленные пары». Все нарисовано, вернее написано, очень просто, как всегда в народном искусстве: изображая страсти или гульбу, остаются на уровне только красоты.
Тема «пирование», «столование», «чаепитие», «застолье» — названий у нее много — изображается очень часто. Всегда не очень заметная, неназойливая симметрия и отсутствие впереди сидящих. Как их изображать? Спиной, боком? — вечная загвоздка для художника, как не вносить суету и путаницу, чтобы фигуры не мешали, не заслоняли друг друга. Попыток заполнить фигурами передний край стола в старой русской живописи не очень много. В миниатюрах вокруг круглого или овального стола нередко допускались впереди сидящие, в иконах Троицы иногда вводили добавочные фигуры Авраама и Сарры и заклание тельца спереди. Старые городецкие мастера от всего этого отказались начисто.
Впереди стола ничего нет. Сзади — обрамление цветами. Иногда часы, громадные, узорные, или зеркало, занавески, обои, а то и лебеди, башенки, архитектурные своды, колонны. Пол — клетками, ножки стола волютами. Похоже на балдахин — «киворий» в иконах, миниатюрах, фресках — и не похоже, по своей бытовой правдоподобности. Я называю такую рамку, без глубины, просто «павильончиком», а то говорят еще «беседка», «гулянка».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Цвет ликующий"
Книги похожие на "Цвет ликующий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Татьяна Маврина - Цвет ликующий"
Отзывы читателей о книге "Цвет ликующий", комментарии и мнения людей о произведении.