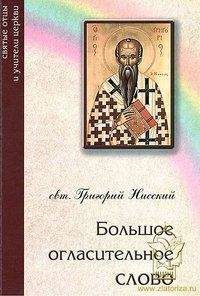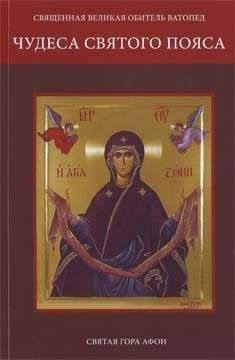Виктор Несмелов - Догматическая система святого Григория Нисского
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Догматическая система святого Григория Нисского"
Описание и краткое содержание "Догматическая система святого Григория Нисского" читать бесплатно онлайн.
Рядом с этим выражением непосредственной веры, возникли и стали развиваться еще два взгляда на христианское учение о св. Троице: это — взгляды иудео–евионейский и гностико–языческий. Евионеи, воспитанные на букве Моисеева закона, в котором сказано: слыши, израилю, Господь Бог наш Господь един есть (Втор. VI, 4), с первого же раза отнеслись к христианскому откровению критически. Со своей монархианской точки зрения, они совершенно не могли понять и принять церковного учения о Св. Троице, а потому взялись прежде всего исследовать, почему и в каком именно смысле христианское откровение говорит о трех Лицах, когда Бог только один, — взялись с тою именно целью, чтобы прочнее установить свое искаженное иудейство и затем слить с ним противоположное ему христианское откровение. Так как они заранее предрешили мнимую неверность этого откровения, то ждать от них разумного решения поставленного ими серьезного вопроса, понятно, нельзя было; они могли не объяснять христианство, а только искажать его. И действительно, по выражению одного древнего ересеолога, они превратили высокое христианское учение о Св. Троице в „пустую басню о Христе и о Святом Духе [303]“. Баснословие их о Христе состояло в том, что они безусловно отвергли Его предвечное рождение от Бога Отца, и учили, что Он не рожден от Бога Отца, а создан Им из ничего, как один из высших ангелов, — и отличается от других тварей лишь тем, что прежде других явился в бытие и по своему достоинству стоит выше всех, — так что даже господствует над всем, что только приведено в бытие Вседержителем [304]. Как тварь, Он, конечно, уже не может быть назван Сыном Божиим в собственном смысле, — но евиониты не желали совершенно отвергать этого имени в приложении к Иисусу Христу. Они считали возможным прилагать его к Нему в смысле нравственном, в том именно смысле, что „Он заслужил наименование Сына Божия своею добродетельною жизнью“, есть именно „Сын Божий по преуспеянию в добродетели [305]“. Каково было учение евионитов о Св. Духе, — за недостатком ясных указаний мы не знаем; но достаточно рассмотреть только их учение о Сыне Божием, чтобы видеть, что основную идею своей теологии — абсолютное единство Бога — они утвердили путем совершенного уничтожения христианского учения о Св. Троице.
Одновременно с евионитами, христианским вопросом о Лице Сына Божия занимались и полухристианские философы, называвшие себя гностиками. Они усвоили себе философские начала восточной дуалистической теософии, рассматривавшей Бога и мир, как две противоположности, не имеющие друг к другу никакого другого отношения, кроме враждебного. С точки зрения этого крайнего дуализма, они выставили основанием своей теологии положение, что Бог без потери своего божества не может воплотиться, облечься в материю, потому что материя есть принцип зла и отрицания Бога. Это было положение — специально христологическое, — но из него, как из основания, они вышли и в своем учении о Лице Сына Божия до Его воплощения. Так как Сын Божий воплотился и чрез свое воплощение, хотя бы даже и призрачное, пришел в соприкосновение с материей, не насилуя своей природы, то ясно, что он — не Бог, — потому что иначе Он никаким образом не мог бы пребывать в области материи без отрицания Своей собственной природы. С утверждением этого положения, сам собою является вопрос: за кого же в таком случае нужно принимать Христа? По общему решению всех гностиков, Он есть не что иное, как эон, эманация божественной сущности, Лицо несомненно божественной природы, но только чрез истечение отделившееся от верховного Бога, и в силу этого отделения не обладающее истинными божественными совершенствами своего Отца. При этом Он не один только исшел из глубины Божества, а прежде Него, вместе с Ним и чрез Него выступил из недр той же самой глубины еще целый ряд таких же эонов, обладающих одною и тою же природою, но не одинаковых по своей близости к Отцу и по своим божественным совершенствам, — так что вся полнота (плирома) Божества заключает в себе от 80 до 865 разных сущностей. В этих измышлениях гностической фантазии нет ничего даже и похожего на христианское учение о Св. Троице, хотя все гностики именовали себя христианами, и притом — совершенными христианами.
Учение евионизма и гностицизма встретило себе сильного противника в лице св. Иринея лионского, который, с точки зрения учения церкви, настаивал на том положении, что Иисус Христос — не высший ангел евионитов и не эон гностиков, а истинный Сын Божий, — что Он имеет бытие не чрез творение или истечение из божественной сущности, а чрез рождение от неё, — и что Он не только не лишен никаких Божеских совершенств, но и обладает полным отчим божеством. Обличая фантастические гипотезы гностиков относительно происхождения Сына Божия, св. Ириней говорит, что Сын рожден от Отца „неизреченным рождением“, которое известно только „родившему Отцу и рожденному Сыну“, так что браться людям за разъяснение этой непостижимой тайны значит только показывать свое безумие [306]. Он безусловно порицает всякие попытки человеческого ума постигнуть рождение Сына Божия, и даже столь обычные у отцов церкви аналогии человеческого слова и солнечного света подверглись у него строгому осуждению. Св. Ириней настолько преклонялся пред полною непостижимостью акта божественного рождения, что не считал возможным категорически утверждать даже и того, что этот акт есть именно рождение, а не другой какой–либо акт. „Если, — говорит он, — кто спросит: как же Сын рожден от Отца, — мы ответим ему, что никто не знает того произведения, или рождения, или наречения, или откровения, или кто иначе как–либо назовет Его неизреченное рождение“ [307]. Таким образом, единственно разумный ответ, какой только можно дать любознательному человеку относительно происхождения Сына Божия от Бога Отца, должен состоять лишь в признании его непостижимости. Но можно спросить: в чем же именно состоит непостижимость этого акта, и почему именно его нельзя даже приблизительно уразуметь путем каких–нибудь аналогий? Это потому, — отвечает св. Ириней, — что Сын Божий и после Своего рождения не отделился от Отца, всегда пребывает с Ним нераздельно, находясь во Отце и имея в Себе Отца. Такого бытия Сына Божия не в состоянии представить никакая аналогия, да в чувственном мире и нельзя найти чего–либо подобного [308]. Здесь все, — что происходит, — или отделяется от своего источника, или, но крайней мере, не одно с ним, — а в божестве Рожденный неразделен с своим Родителем и потому составляет едино с Ним. Это учение о нераздельном бытии Сына Божия с Богом Отцом служит для св. Иринея исходным пунктом в его учении о совершенном божестве Сына Божия и о полном равенстве Его с Богом Отцом. Он называет Сына „мерою Отца [309]“, „видимым Отца“ [310], и даже прямо — „одним и тем же Богом со Отцем [311]“.
Св. Ириней не напрасно вооружался против всяких аналогий в раскрытии образа рождения Сына Божия. Эти аналогии действительно не столько разъясняли человеческому уму непостижимую божественную тайну, сколько иногда вводили его в заблуждение. Так, например, гностики, приравнивая происхождение божественного Логоса к происхождению обыкновенного слова человеческого, думали найти в этой аналогии неопровержимое доказательство в пользу справедливости своего учения о Христе, как о четвертом члене божественной плиромы. Человеческое слово, рассуждали они, рождается от мысли, мысль производится умом, ум принадлежит человеческой природе: следовательно, и Логос — Сын таким же путем произошел из природы божественной [312]. Это заключение было нелепо, — но оно вполне отвечало принятой аналогии, и потому легко могло вводить некоторых в заблуждение. Но гораздо опаснее всех гностических фантазий было учение некоторых евионитствующих христиан, которые, проводя самую строгую аналогию между рождением Логоса и происхождением человеческого слова, отвергли ипостасное бытие Сына Божия, как личного божественного Логоса и образовали темную секту алогов [313]. Эта секта была незначительна и, кажется, разложилась вскоре после своего появления, — но разложилась не бесследно. Идеи её нашли себе многочисленных приверженцев в лице монархиан конца II и III века, которые отвергли ипостасное бытие божественного Логоса ради сохранения в Боге абсолютного единства. Первыми вождями этой ереси считаются два Феодота — кожевник (σκυτευς) и банкир (τραπεξίτης) [314]. Подробных сведений об их учении не сохранилось; известно только, что основная; идея, за которую они ратовали, была чисто евионейская. Оба они отрицали личное бытие Сына Божия, считая Спасителя простым человеком [315], причем младший Феодот считал Его даже ниже ветхозаветного Мельхиседека [316]. Это коренное отрицание христианства вскоре вызвало себе опровержение со стороны одного благочестивого исповедника, по имени Праксея. Но желая в противоположность евионейскому монархианизму Феодотов как можно сильнее возвысить Лицо Спасителя, Праксей неожиданно для себя самого впал в ту же самую ошибку, которую взялся было опровергнуть. Он учил, что Иисус Христос есть воплотившийся Сын Божий, который во всем равен своему Отцу, так что составляет с Ним одно и тоже Лицо. Праксей хорошо сознавал, что мыслить единоличие Бога Отца и Сына Божия совершенно невозможно, потому что такая мысль представляется для человеческого разума сущею нелепостью, — но в этом он желал видеть только слабость человеческой мысли пред непостижимостью Бога. Если, рассуждал он, человек не может быть отцом себя самого, то эту невозможность нельзя распространять и на Бога, потому что Он всемогущ; следовательно, нечего и возражать против единоличия в Боге Отца и Сына. Таким образом, Праксей утверждал в сущности тот же самый монархианизм, из противодействия которому и вышел. Выяснить неправославие праксеевского учения и вместе с тем раскрыть истинное учение о св. Троице взялся карфагенский пресвитер Тертуллиан, написавший специальное сочинение — Аdrersus Praxeam [317]. „Так как, — говорит Тертуллиан, — патрипассиане [318] хотят, чтобы два были единым, чтобы один и тот же почитался Отцем и Сыном, то исследование о Сыне должно простираться на все, и нужно решить вопросы: есть ли Он, и кто Он, и как существует [319]. Для доказательства действительности личного бытия Сына Божия Тертуллиан обращается к обычной аналогии между Логосом Божиим и словом человеческим, и из этой аналогии выводит, что подобно тому, как слово человеческое является естественным собеседником человека, выражая его мысли, — является как будто иным в человеке, хотя и существует с ним и в нем нераздельно, — так и в Боге есть совершеннейшее Слово, вечный советник Отца, существующий с Ним и в Нем нераздельно, и все–таки отличный от Него. Слишком близко придерживаясь неточной аналогии [320], Тертуллиан выяснил эту нераздельность бытия Сына Божия с Богом Отцом в очень темных и двусмысленных выражениях. Он указывает на тот истинный факт, что человек, как только начинает мыслить, непременно мыслит словами, хотя бы и не выражал своих мыслей вслух; в этом случае его слово существует только в нем; когда же человек мыслит и говорит, он произносит свое слово, как бы отделяет его от себя, и таким образом оно существует уже не только в нем, но и вне его. Отсюда Тертуллиан делает очень неудачное пояснительное заключение по отношению к Богу. По его представлению, сначала Бог еще только намеревался изречь Свое слово, чтобы все привести в бытие, — Он еще мыслил молча и потому Его слово существовало только в Нем. Когда же Бог захотел осуществить свою мысль, Он произнес Свое Слово, которое таким образом вышло из Него, родилось и „сделалось Сыном перворожденным, потому что родилось прежде всего, и единородным, потому что одно только родилось от Бога, в собственном смысле из Его сущности“ [321]. На вопрос — когда именно совершилось это рождение Сына, Тертуллиан ответил: тогда, когда Бог сказал: fiat lux — и в доказательство справедливости этого ответа сослался на слова Премудрости в книге Притчей VIII, 22: Господь созда мя начало путей Своих [322]. С момента рождения Сын является самостоятельным Лицом, иным по отношению к Своему Отцу; но эта двойственность Лиц нисколько не разрушает собою единства Божества, потому что Сын, как единосущный Отцу, имеет с Ним нераздельное бытие. Сын вполне един с Своим Отцом, потому что отличается от Него не по сущности, а только gradu, forma et specie (по состоянию, форме и виду) [323]. Для выяснения этого отличия Тертуллиан обратился к аналогиям нераздельного существования различных предметов: корня и дерева, источника и реки, солнца и луча. Подобно тому, как корень и дерево, источник и река, солнце и луч составляют хотя и два предмета, но неразрывно связаны вместе, так „сообразно с этим примером, я признаю двух: Бога и Его Слово, Отца и Его Сына“ [324]. По своему существу Бог несомненно един, но из этого единого в тайне домостроительства происходят три различные „состояния, формы и виды — Отца, Сына и Святого Духа“, — и таким образом домостроительство Божие разлагает единство на троичность [325], без разрушения, однако, единства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Догматическая система святого Григория Нисского"
Книги похожие на "Догматическая система святого Григория Нисского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Несмелов - Догматическая система святого Григория Нисского"
Отзывы читателей о книге "Догматическая система святого Григория Нисского", комментарии и мнения людей о произведении.