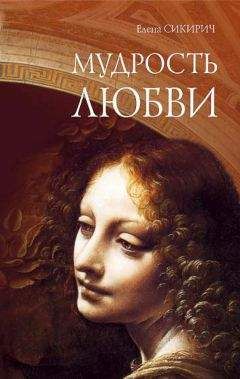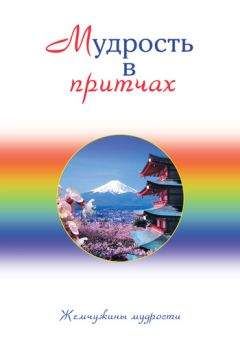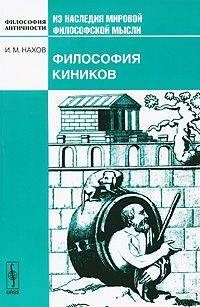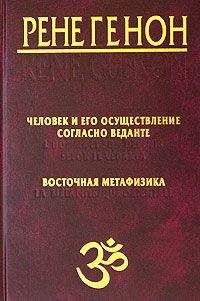Эмманюэль Левинас - Тотальность и бесконечное

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Тотальность и бесконечное"
Описание и краткое содержание "Тотальность и бесконечное" читать бесплатно онлайн.
Эмманюэль Левинас (1905–1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М. Буберу, Г. Марселю, М. Бахтину, другим выдающимся мыслителям эпохи, Э. Левинас приходит к убеждению, что философия — это прежде всего мудрость сострадания, мудрость любви.
В настоящий том вошли следующие произведения Э. Левинаса: «От существования к существующему», «Тотальность и Бесконечное», «Ракурсы» и ряд других, а также посвященное творчеству Э. Левинаса эссе Жака Деррида «Насилие и метафизика».
Благодаря идеям, которые независимо одна от другой были высказаны в «Метафизическом дневнике» Габриэля Марселя и в работе «Я и Ты» Бубера, отношение к Другому как несводимое к объективному познанию утратило свой необычный характер, — какова бы ни была позиция, которую можно занимать в отношении систематического развития этих идей. Бубер провел различие между отношением к Объекту, руководствующимся практикой, и диалогическим отношением, которое постигает Другого как Ты, как партнера и друга. Он скромно утверждал, что нашел это положение, центральное в его работах, у Фейербаха [31]. В действительности же эта идея обрела все свое значение в творчестве Бубера, именно здесь она предстала как важнейший вклад в современную философию. Тем не менее можно задаться вопросом, не ставит ли Другого обращение на «ты» в отношение взаимности и не является ли эта взаимность изначальной? С другой стороны, отношение Я — Ты все еще сохраняет у Бубера формальный характер: оно в равной мере может соединять как человека с человеком, так и человека с вещами. Формализм отношения Я — Ты не определяет никакой конкретной структуры. Это отношение есть событие (Geschehen), потрясение, понимание, однако оно не дает возможности трактовать жизнь (разве что — как душевное расстройство, срыв.
болезнь), представляющую собой нечто иное, чем дружба, — например, если это экономика, стремление к счастью, характерное отношение к вещам. В рамках в некотором роде самодовольного спиритуализма все это остается неисследованным, без объяснения. Настоящий труд не ставит своей задачей «подправить» Бубера по данным вопросам — это было бы смешно. Исходя из идеи Бесконечного, мы включаемся в совершенно другую перспективу.
Стремление найти доступ к Иному, постичь его реализуется в отношении к другому, протекающему в отношении, свойственном языку, отношении, сущностью которого является обращенность к кому-либо, призывность. Другой утверждает и подтверждает себя в своей инаковости тотчас же, как только к нему обращаются с запросом, хотя бы даже с целью сообщить ему, что не могут с ним говорить, или что он болен, или что осужден на смерть; он «уважаем», даже если схвачен, ранен, подвергнут насилию. Тот, к кому обращаются, — это не то, что я «разумею»; он не подпадает ни под какую категорию. Он тот, к кому я обращаюсь со словами, — он соотносится только с самим собой, он не есть некто. Однако формальную структуру обращения следует развить.
Объект познания всегда определен, он уже есть и уже превзойден. Тот, к кому обращаются, призван говорить, его говорение заключается в том, чтобы «прийти на помощь» собственному слову, а именно: стать присутствующим. Это присутствие состоит не из таинственным образом остановленных мгновений длительности, а из нескончаемого возобновления мгновений, протекающих благодаря присутствию, приходящему им на помощь, ответственному за них. Эта нескончаемость и порождает настоящее, она есть представление — жизнь — настоящего. Все происходит так, как если бы присутствие того, кто говорит, обращало вспять неизбежное движение, которое ведет высказанное слово в прошлое слова записанного. Выражение и есть эта актуализация настоящего. Настоящее рождается в этой борьбе, если можно так сказать, с прошлым, в этой актуализации. Неповторимая актуальность слова вырывает его из той ситуации, в которой оно возникает и которую, как кажется, продолжает. Эта актуальность привносит то, чего записанное слово уже лишилось, — овладение. Слово, в большей степени, чем простой знак, по существу своему является научением. Оно научает прежде всего самому этому научению, благодаря которому оно только и может преподавать (а не пробуждать во мне, как это бывает в маевтике) вещи и идеи. Идеи просвещают меня с помощью учителя, который их представляет мне, их обсуждает; тематизация и объективация, которых достигает объективное познание, основываются на научении. Спор о вещах, имеющий место в диалоге, не является модификацией их восприятия: он совпадает с их объективацией. Объект предстает перед нами с появлением собеседника. Учитель — в нем совпадают обучение и обучающий — в свою очередь не просто факт. Настоящее, в котором является обучающий учитель, преодолевает хаотичность факта.
Язык не обусловливает сознания на том основании, что он обеспечивает самосознанию воплощение в объективном творении — языке, как считают гегельянцы. Экстериорность, которую язык обозначает, — отношение к Другому, — не походит на экстериорность произведения, поскольку объективная экстериорность произведения уже находится в мире, создаваемом языком, то есть трансценденцией.
4.Риторика и несправедливость
Не всякая речь имеет отношение к экстериорности.
В наших речах мы чаще всего обращаемся не к нашему собеседнику, наставнику, а к объекту или к ребенку либо к обычному человеку [32], как говорил Платон. Наши педагогические или психагогические [33] дискурсы — это риторика в устах того, кто лукавит со своим ближним. Вот почему софистическое искусство является таким феноменом, по отношению к которому определяется подлинный дискурс, касающийся истины, то есть философский дискурс. Риторика, которая присутствует в любом дискурсе и которую философский дискурс стремится преодолеть, противится дискурсу (или ведет к нему — педагогике, демагогии, психагогии). Она стремится приблизиться к Другому не прямо, а окольным путем; конечно, не как к вещи — поскольку риторика остается речью и, при всех своих уловках, идет к Другому, добиваясь его согласия. Однако специфическая природа риторики (пропаганды, лести, дипломатии и т. п.) заключается в том, что она коррумпирует эту свободу. Именно поэтому она и является насилием par excellence, то есть несправедливостью. Здесь речь идет о насилии не по отношению к чему-то инертному, тогда оно не было бы насилием, а по отношению к свободе, которая, именно как свобода, должна быть неподкупной. Риторика превращает свободу в категорию — создается впечатление, что она судит о свободе, как о природе, задавая по поводу нее вопрос, содержащий противоречие уже в своих терминах: «какова природа этой свободы?».
Отказаться от заключенных в риторике психагогии, демагогии, педагогики значит подойти к другому прямо, в подлинном словесном общении. В этом случае сущее ни при каких условиях не может быть объектом, оно — вне каких-либо влияний. Для бытия такое освобождение от любой объективности в позитивном смысле означает его представленность в лице, его выражение, его язык. Другой как другой есть Чуждый. Чтобы «дать ему быть», необходимо отношение дискурса — простого «обнаружения» бытия, когда оно полагает себя в качестве темы, недостаточно. Прямое обращение в речи мы называем справедливостью. Если истина является в абсолютном опыте, в котором бытие освещается собственным светом, то производится она лишь в подлинном дискурсе, или в справедливости.
Этот абсолютный опыт, осуществляемый лицом-к-лицу, когда собеседник выступает в качестве абсолютного бытия (то есть бытия, не подпадающего ни под какие категории), по Платону, не может быть мыслим без посредничества Идей. Безличные отношения и дискурс, казалось бы, соответствуют одиночному дискурсу или разуму, душе, беседующей с собой. Но разве платоновская идея, в понимании самого философа, равнозначна идеализированному, достигшему совершенства объекту? Не является ли родство между Душой и Идеями, провозглашаемое в «Федоне». всего лишь идеалистической метафорой, выражающей проницаемость бытия для мышления? Сводится ли идеальность идеала к непомерному возрастанию качеств, ведет ли она нас туда, где существа имеют лицо, то есть присутствуют в собственном сообщении? Герман Коген, платоник в этом вопросе, считает, что можно любить только идеи, но понятие Идеи равнозначно, в конечном счете, преобразованию «другого» в Другого. Согласно Платону, истинный дискурс может быть опорой самому себе: предлагаемое мне содержание неотделимо от того, кто его мыслит, а это означает, что автор речи отвечает на поставленные ему вопросы. Мышление для Платона не сводится к безликой цепи истинных отношений, оно предполагает личности и межличностные отношения. Демон Сократа вторгается в само искусство маевтики, которое, однако, соотносится с тем, что является общим для всех людей [34]. Сообщество не устанавливает между собеседниками равенства как такового с помощью идей. Философ, который в «Федоне» сравнивается со стражем, стоящим на своем посту, находится в ведении богов — он не равен им. Может ли быть трансцендирована иерархия существ, вершиной которой является существо разумное? Какой новой ступени совершенства могло бы соответствовать возвышение божества? Платон противопоставляет адресуемым людям делам и словам, в которых есть еще определенная доля красноречия и предвзятости (и мы их тоже используем), другие слова, чтобы «быть в состоянии говорить угодное богам»[35]. Собеседники не равны друг другу; слова, достигшие истины, — это общение с богом, а не услужение «товарищам по рабству»[36]. Общество возникает не из созерцания истины; отношение к другому, нашему господину, делает возможным истину. Истина, таким образом, связана с социальным отношением — со справедливостью. Справедливость же заключается в том, чтобы признать в другом моего господина. Равенство личностей само по себе ничего не значит. Оно носит экономический характер, предполагает деньги, и само основывается на справедливости, которая, если она упорядочена, берет начало в другом. Справедливость — это признание привилегий другого и его господства, отношение к другому вне риторики, которая есть коварство, подчинение и эксплуатация. И в этом плане преодоление риторики и справедливость совпадают друг с другом.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тотальность и бесконечное"
Книги похожие на "Тотальность и бесконечное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эмманюэль Левинас - Тотальность и бесконечное"
Отзывы читателей о книге "Тотальность и бесконечное", комментарии и мнения людей о произведении.