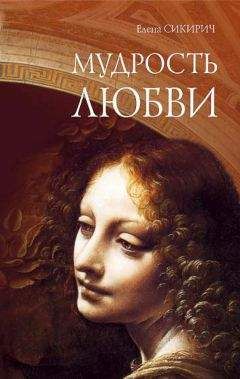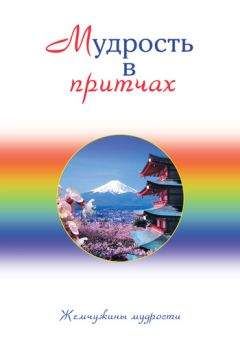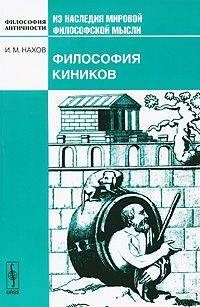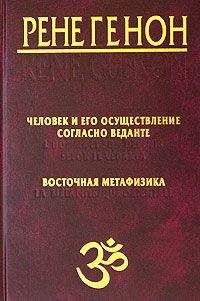Эмманюэль Левинас - Тотальность и бесконечное

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Тотальность и бесконечное"
Описание и краткое содержание "Тотальность и бесконечное" читать бесплатно онлайн.
Эмманюэль Левинас (1905–1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М. Буберу, Г. Марселю, М. Бахтину, другим выдающимся мыслителям эпохи, Э. Левинас приходит к убеждению, что философия — это прежде всего мудрость сострадания, мудрость любви.
В настоящий том вошли следующие произведения Э. Левинаса: «От существования к существующему», «Тотальность и Бесконечное», «Ракурсы» и ряд других, а также посвященное творчеству Э. Левинаса эссе Жака Деррида «Насилие и метафизика».
Истина ищется в другом, но тот, кто ищет, делает это не из нужды. Расстояние здесь непреодолимо и в то же время преодолено. Отдельное бытие — самодостаточно, автономно и вместе с тем ищет другого, но его поиск не подгоняется ни нехваткой, ни памятью об утраченном благе; подобная ситуация — это ситуация языка. Истина рождается там, где бытие, отделенное от другого бытия, не погружается в него, а обращается к нему с помощью слова. Язык, не дотрагиваясь до другого (например, касанием), достигает его, либо обращаясь к нему, либо повелевая им, либо подчиняясь ему со всей прямотой этих отношений. Отделение и интериорность, истина и язык образуют категории понятия бесконечного, или метафизики.
В отделении — которое совершается посредством психической природы наслаждения, посредством эгоизма, счастья, с которыми Я отождествляет себя. — Я не замечает Другого. Но Желание Другого, существующее по ту сторону счастья, требует этого счастья, этой автономии воспринимаемого, даже если отделение ни аналитически, ни диалектически не выводится из Другого. Я. обладающее личной жизнью, «я» атеистическое, атеизм которого не знает нехватки и не укладывается в судьбу, преодолевает себя в Желании, порождаемом присутствием Другого. Желание живет в бытии, уже достигшем счастья: желание — это несчастье счастливого, утопающая в роскоши нужда.
Я уже существует в высшем смысле: в самом деле, его нельзя себе представить сперва существующим и затем, как бы сверх того наделенным счастьем, тем счастьем, что добавляется к существованию на правах атрибута. Я существует в качестве отдельного через наслаждение; Я счастливо и может пожертвовать ради счастья самим своим бытием. Оно существует в самом высоком смысле, оно существует над бытием. Однако в Желания бытие Я возносится еще выше, поскольку оно может пожертвовать желанию собственным счастьем. Я, таким образом, благодаря наслаждению (как счастью) и желанию (истине и справедливости) находится на вершине, на острие, в апогее бытия. Над бытием. По отношению к классическому понятию субстанции желание — это инверсия. В желании человеческое бытие превращается в доброту: находящееся на вершине своего бытия, расцветшее в счастье, в эгоизме, полагающее себя как ego, — вот оно, побивающее собственные рекорды, озабоченное другим бытием! Это и есть полное переворачивание бытия, а не изменение какой-нибудь одной его функции, отклонившейся от цели, переворачивание самого его осуществления, приостанавливающее его спонтанное движение существующего и дающее другое направление непревзойденной апологии.
Это — Желание, которое не получает удовлетворения не потому, что оно вызвано не знающим утоления голодом, а потому, что оно вообще не взывает к насыщению. Желание ненасытное — но не оттого, что мы конечны. Можно ли толковать платоновский миф о любви, этой дочери изобилия и бедности, как скудость самого богатства; не как жажду того, что было утрачено, но как абсолютное Желание, рождающееся в человеческом бытии, которое владеет собой и, следовательно, прочно стоит «на ногах»? Разве Платон, отвергая миф о двуполых существах, представленный Аристофаном, не предвидел уже не-ностальгический характер Желания и философии, говоря об автохтонном существовании, а не об изгнании; желания как эрозии абсолютного в бытии в силу присутствия Желаемого, присутствия, раскрывающегося, следовательно, как откровение, внедряющего Желание в бытие, которое, отделившись, ощущает себя автономным?
Однако платоновская любовь не совпадает с тем, что мы назвали Желанием. Целью первого побуждения Желания является не бессмертие, а Другой. Это Желание абсолютно лишено эгоизма, имя его — справедливость. Оно не связывает между собой существа уже родственные друг другу. Могущество идеи творения, пришедшей вместе с монотеизмом, заключается в том, что это творение ex nihilo: не потому, что оно представляет собой произведение более чудесное, чем полная творческих сил материя, а потому, что тем самым отделившееся бытие — сотворенное — не просто исходит от отца, но что оно — совершенно иное.
Наконец, дистанция, разделяющая счастье и желание, разделяет также политику и религию. Политика тяготеет к взаимному признанию, то есть к равенству; она обеспечивает счастье. Законы политики завершают и освящают борьбу за признание. Религия — это Желание, а вовсе не борьба за признание. Она — излишество, возможное в обществе равных. излишество блистательного смирения, ответственности и самопожертвования, являющихся условием самого равенства.
3. Речь
Говорить об истине как о модальности отношения между Самотождественным и Другим значит не противостоять интеллектуализму, а поддерживать его основное намерение — почитание бытия, озаренного светом интеллекта. Для нас своеобразие отделения заключается в обретении отделившимся бытием автономии. Познавая, или, точнее, претендуя на познание, познающий тем самым не участвует в познаваемом бытии, не соединяется с ним. Отношение истины включает в себя, таким образом, измерение интериорности: это — психика, где укрепился метафизик вкупе с Метафизикой. Однако мы уже указывали, что отношение истины, которое одновременно и преодолевает и не преодолевает дистанцию — не образуя тотальности с «другим берегом», — основывается на языке: это отношение, члены которого освобождаются от отношения — остаются отдельными. Без такого освобождения абсолютная дистанция метафизики была бы иллюзорной.
Познание объектов не создает отношения, члены которого были бы вне отношения. Сколь бы бескорыстным ни оставалось объективное познание, на нем так или иначе — печать того, каким именно образом познающее бытие соприкасалось с Реальностью. Признавать истину в качестве обнаружения значит соотносить ее с горизонтом того, кто обнаруживает. Платон, отождествляющий познание и видение, подчеркивает в «Федре», в мифе о крылатой колеснице, движение души, созерцающей истину, и относительность истинного перед лицом этого бега. Обнаружение бытия происходит по отношению к нам, а не по отношению к καθ'αυτο. Согласно классической терминологии, чувствительность, тяготение к чистому опыту, восприимчивость бытия перерастают в познание, только если подвергаются переработке с помощью рассудка. Согласно же современной терминологии, мы познаем только относительно того или иного проекта. В работе мы достигаем этого в связи с поставленной нами целью познания. О подобной модификации, которую познание привносит в Единое, утрачивая в познании его единство, Платон уже говорил в «Пармениде». Познание, взятое в абсолютном смысле этого слова, чистый опыт другого бытия должны поддерживать другое бытие καθ'αυτο.
Если объект соотносится с проектом и с деятельностью познающего, это потому, что объективное познание является отношением с постоянно преодолеваемым и постоянно подлежащим интерпретации бытием. Вопрос «что это такое?» относится к «этому» как к «тому». Ведь познавать объективно значит познавать историческое, то есть факт, уже совершившееся, уже преодоленное. Историческое не определяется прошлым — и историческое и прошлое определяются в качестве тем, о которых можно говорить. Они подвергаются тематизации именно потому, что уже не говорят. Историческое всегда отсутствует в самом своем присутствии. Этим мы хотим сказать, что историческое исчезает за своими проявлениями — его явление всегда поверхностно и противоречиво, его истоки, его начала — всегда в другом месте. Историческое — это феномен, реальность без реальности. Течение времени, и котором, согласно кантианской схеме, возникает мир, не имеет истока. Этот утративший свое начало анархический (an-archique) мир — мир феноменов — не отвечает поиску истины, но его хватает на наслаждение, которое есть сама достаточность, нисколько не задеваемая уловками, к каким прибегает экстериорность, препятствуя разысканию истины. Однако этот мир наслаждения не удовлетворяет метафизическим запросам. Познание того, что тематизировано, есть лишь постоянно возобновляющаяся борьба против всегда возможных мистификаций факта, но одновременно и преклонение перед фактом, то есть обращение к тому, что больше не говорит и что представляет собой непреодолимую множественность значений и их искажений. Либо такое познание призывает познающего к нескончаемому психоанализу, к безнадежному поиску подлинного истока хотя бы в себе самом, к попыткам пробуждения.
Проявление καθ'αυτο, где бытие затрагивает нас, не таясь и не выдавая себя, не означает для него быть обнаруженным, открыться взгляду, который взял бы его в качестве темы интерпретации и занял бы в отношении него абсолютную позицию, доминирующую над объектом. Проявление καθ'αυτο, если говорить о бытии, заключается в том, чтобы заявить о себе независимо от какой бы то ни было нашей позиции по отношению к нему, с тем, чтобы выразить себя. Здесь вопреки всем условиям, позволяющим наблюдать объект, бытие располагается не в свете другого, а само предстает в проявлении, и это проявление должно только возвестить о нем; бытие присутствует, как бы направляя само это проявление, — присутствует до проявления, которое должно только явить его. Абсолютный опыт — это не обнаружение, а откровение: совпадение выраженного и того, кто выражает, проявление, тем самым привилегированное, Другого, проявление лица помимо формы. Форма постоянно искажает то, что она проявляет, — застывая в пластическом образе, поскольку он адекватен Самотождественному, форма отчуждает экстериорность Другого. Лицо же есть живое присутствие, оно — выражение. Жизнь выражения состоит в разрушении формы, в которой существующий, представая в качестве темы, скрывает себя. Лицо говорит. Проявление лица — это уже речь. Тот, кто проявляет себя, по словам Платона, оказывает поддержку себе самому. Он постоянно разрушает форму, которую сам же представляет.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тотальность и бесконечное"
Книги похожие на "Тотальность и бесконечное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эмманюэль Левинас - Тотальность и бесконечное"
Отзывы читателей о книге "Тотальность и бесконечное", комментарии и мнения людей о произведении.