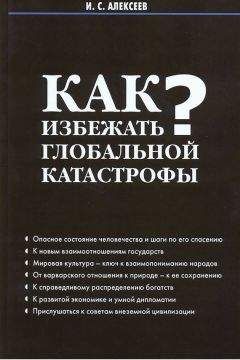Вольфганг Киссель - Беглые взгляды

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Беглые взгляды"
Описание и краткое содержание "Беглые взгляды" читать бесплатно онлайн.
В европейских литературах жанр травелога (travelogue, англ. — повествование о путешествии) занимает центральное место с самого начала Нового времени. Эта книга предлагает широкий спектр новых прочтений русских травелогов первой трети XX века, охватывая произведения А. Чехова, В. Розанова, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Белого, В. Шкловского, И. Эренбурга, Г. Иванова, М. Горького, А. Платонова. Основное внимание уделяется травелогам в границах или на границы советской империи, однако представлены и те, в которых речь идет о впечатлениях русских писателей в Западной Европе. Название «Беглые взгляды», с одной стороны, подразумевает историческое состояние бегства, в которое были ввергнуты люди вследствие Первой мировой войны, Октябрьской революции и Гражданской войны в России, с другой стороны — акцентирует эстетическую и поэтологическую «беглость» травелогов модернизма, их ассоциативный и коннотативный потенциал. Так возникает новый образ жанра травелога и его эволюции в русской литературе.
Еще более важным представляется, что, согласно Толковому словарю В. Даля, в конце XIX века слово «мимо» в провинции употреблялось в значении «скоро», «мигом», вместе с тем в сибирском наречии оно приобретало прямо противоположное значение: «всегда», «то и дело»…[167] В русских регионах по ту сторону Урала, если говорят «он мимо пишет», то речь идет о графомане типа Розанова, который постоянно пишет, не может прекратить писать, в то время как на родине Розанова, в Золотом Роге, это выражение характеризует человека, который пишет быстро и бегло, не особенно задумываясь, у которого поток сознания в равной степени бесконтрольно и безобразно изливается на бумагу. То есть слово «мимо» на языковом уровне обозначает тот зазор между моментным и вечным, который и стремится поймать беглый взгляд Розанова[168]. Эфемерное становится эпифанией — мирской и сакральной одновременно — и наконец переходит в апокалипсис, в страшное видение финала.
«Мимолетное» как явление, подчиненное бегу времени, даже тем противостоит «беглому», практически не встречающемуся в главных произведениях Розанова[169], что обладает глубоким историческим измерением, восходящим к выражению «мимолетное виденье» из посвященного А. Керн программного стихотворения А. Пушкина К***: «Я помню чудное мгновенье, / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, / Как гений чистой красоты»[170]. «Мимолетное» вызывает в памяти не прозаический эпизод, но именно поэтическое воображение воспоминания (как о гении чистой красоты). Поэтому нельзя согласиться с А. Николюкиным, одним из ведущих знатоков Розанова в России, когда он утверждает, будто Розанов заменяет вечное — преходящим[171]. Ведь Розанов озабочен именно тем, чтобы поймать устойчивость в беглом, даже в самой беглости. «Мимолетное» — это онтологическая программа. И в то же время это программа определенной культуры письма, которая в силу устойчивой фиксации мгновенных впечатлений, мыслей и представлений ставит своей целью передачу аутентичного «протокола» человеческой души.
Русское прилагательное «мимоглядный» (глядящий мимо) точно обозначает то, что мы по-немецки называем «füchtig hinsehen», а существительное «мимогляд» характеризует человека, который бросает беглые или же праздные взгляды и для определения которого в лексикографе И. Павловского есть звучащий сегодня несколько архаично, но единственно точный эквивалент — «Maulaffe»[172]. В слове «мимодельный» мы находим своего рода обозначение чего-то сделанного мимоходом, в часы праздности, так сказать, определение для еще не зафиксированного, преступного предвестника нелегального труда. Здесь все соответствует неотрегулированным, неучрежденным нормам цивилизаторского порядка. Именно в этой анормальности, в этом отклонении от прочных институций нам следует искать истоки беглых взглядов Розанова.
В «Коробе втором» своих «Опавших листьев» Розанов делает характерное признание. Стилизация себя самого как представителя «конца литературы» (сравним упрек М. Горького в адрес А. Чехова: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм… Реализм Вы укокошите»[173]) обнаруживает, наряду с аргументом о незначительности деталей, аргумент относительно беглости. Разумеется, беглость обозначается здесь психологически и относится к движениям души, посредством которых можно одновременно представить невидимое бытие и повседневность как тайну и девальвировать как тривиальность. Под завесой беглости на месте возвышенного оказываются ужасы смерти:
…иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. И, может быть, это есть мое мировое «emploi». Тут и моя (особая) мораль, и имморальность. И вообще мои дефекты и качества. Иначе нельзя понять. Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. Но вообразить, что это было возможно потому, что «я захотел», никак нельзя. Сущность гораздо глубже, гораздо лучше, но и гораздо страшнее (для меня): безгранично страшно и грустно[174].
Беглость впечатлений корреспондирует у Розанова с нестабильностью наблюдательного пункта. Мобильность точки зрения неизбежно несет с собой изменчивость идеологических позиций и модели мира. Здесь начинают «скользить», говоря словами Ж. Лакана, не только и не столько сигнификации, но и сигнификатор. В авторе своих текстов Розанов совместил нарративную полифонию Достоевского — полифонию находящихся рядом равноправных точек зрения персонажей — и точку зрения на них самого рассказчика. Он не только мог завтра противоречить тому, что говорит сегодня или вновь утверждать то, что, глядя во вчерашний день, объявил недействительным: он представлял одновременно на страницах идеологически враждебных друг другу изданий не соединимые друг с другом мнения. Да, он полемизирует с самим собой. Так Розанов стал для современников воплощением морально неустойчивого, ненадежного человека. Однако с современной точки зрения он представляет собой развитую модель распадающегося, более не идентичного самому себе субъекта.
Русские называют «мимолетом» поверхностного человека, так что Розанов, согласно этическому канону XIX века, характеризовал себя негативно. «Мимолетные птицы» — птицы перелетные, а «мимолетные события» — события, стремительно происходящие и быстро забывающиеся. На самом же деле Розанов обладал одновременно прочной позицией и мобильностью. Так, предпочтение языческого — стабильная величина в его картине мира, а отношение русского и нерусского, напротив, величина колеблющаяся. С одной стороны, он чувствует контекст: его точка зрения явно зависит от окружения. С другой стороны, он противится контексту, отвергая обе господствующие культурные модели: старовизантийскую церковную (и тем самым современную славянофильскую), а также распространяемую западниками модель России нового европейского образца. Вместо этого он пропагандирует свое неоязычество, и здесь ведет себя явно антицерковно, даже реформаторски: личная религиозность, индивидуальная связь человека с Богом должны взять на себя роль церковных инстанций. Это было и возвращением к ренессансу. С точки зрения биографической в образе мыслей Розанова все-таки отразилось активное неприятие непоколебимой ортодоксальной веры его второй жены Варвары Бутягиной[175].
II. Путешественник поневолеБеглые взгляды присущи Розанову прежде всего во время передвижения по метрополии, от квартиры до редакции, оттуда в Египетский отдел Эрмитажа, затем обратно домой. С еще большей отчетливостью они сопровождают его путешествия, даже внутри России, которые также устремлены подальше от нелюбимого Петербурга как административного центра. При этом он, собственно говоря, не был «перелетной птицей», скорее гнездарем: наряду с двумя путешествиями за границу, приведшими его в Италию, Австрию, Швейцарию и Германию, в течение двадцати лет с 1898 по 1917 год он все же совершил 15 путешествий в пределах России[176]. Будучи постоянным сотрудником самой солидной тогдашней русской газеты «Новое время», Розанов ежегодно, не считая нескольких корреспондентских командировок, едва ли чаще одного раза отправлялся в путешествие!
А. Чехов, который был только на три года моложе Розанова, в письме от 20 мая 1897 года к своему издателю и владельцу театра А. Суворину высказывал противоположное отношение к путешествию — отвращение к нахождению в одном и том же месте:
Куда наконец Вы решили уехать? И когда? Сидение на одном месте до такой степени надоело мне, и так (выражаюсь по-южному) набрыдло, что я охотно бы проводил Вас до самого Вержболова, если Вы поедете за границу и найдете лишнее место в купе. […] Хочется двигаться, ужасно хочется[177].
В противоположность Чехову, Розанов отклонил максиму М. Клаудиса: «Тот, кто путешествует, может многое рассказать»[178]. В то время как А. Чехов в 1890 году отправился в путешествие через всю Сибирь на остров Сахалин (откуда привез путевой отчет, предвосхитивший книгу А. Солженицына «Архипелаг Гулаг»), волжанин Розанов ни разу не добрался даже до Урала. Он не был рассказчиком; хронотоп приключения в основе своей был чужд ему. Даже экзотические пейзажи едва ли увлекали его, и по Египту, открытому им раю, он никогда не странствовал. По типу своему домашний, семейный человек, он отправлялся в путешествие почти исключительно по причине отпуска, лечения, по заданию своей газеты или же если этого требовали семейные обстоятельства. В связи с ранней смертью родителей Розанов был вынужден не по своей воле провести детство и юность в четырех волжских городах: в Ветлуге (1854–1861), в Костроме (1861–1870), в Симбирске (1870–1872) и в Нижнем Новгороде (1872–1878). За обучением в Москве (1878–1882) последовали годы учения в провинциальных городах Брянске (1882–1887), Ельце (1887–1891) и Белом (1891–1893), пока он, тридцати семи лет от роду, не осел на четырнадцать лет в нелюбимой Петербургской метрополии, которую считал «финской» (С. 11). В конце лета 1917 года, когда ему уже исполнился шестьдесят один год, Розанов вместе со своей семьей бежал из Петербурга от наступающих отрядов альянса, поближе к монастырскому поселку Сергиев Посад под Москвой, где, измученный голодом и нуждой, он не прожил и двух лет.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Беглые взгляды"
Книги похожие на "Беглые взгляды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вольфганг Киссель - Беглые взгляды"
Отзывы читателей о книге "Беглые взгляды", комментарии и мнения людей о произведении.