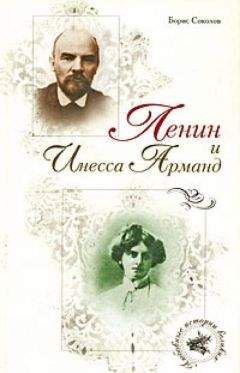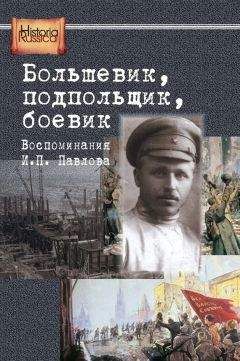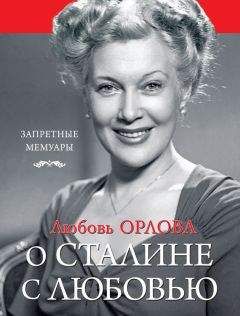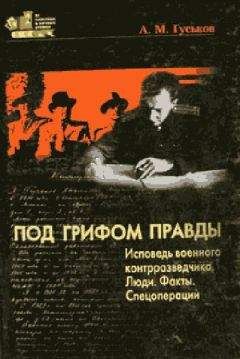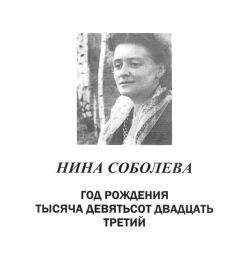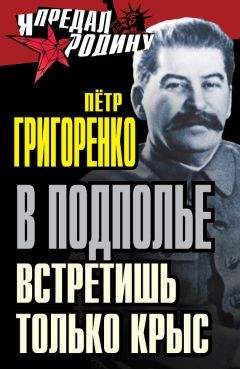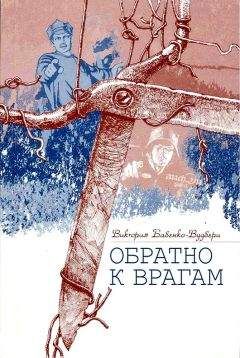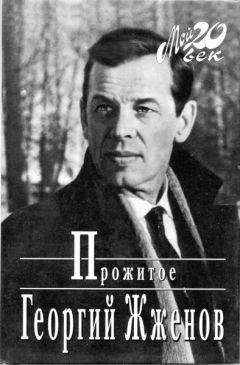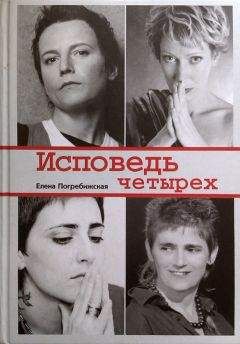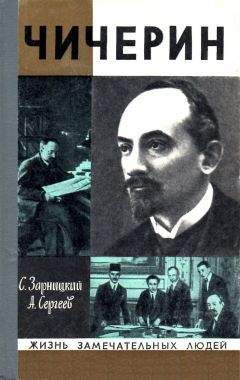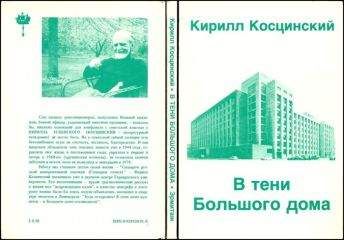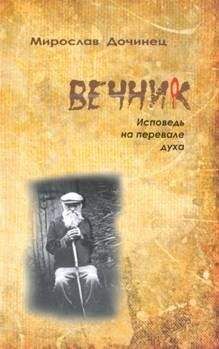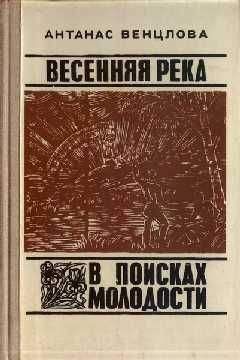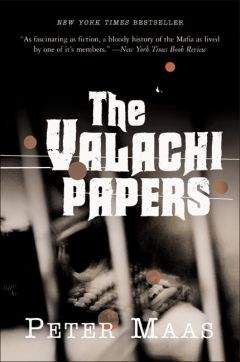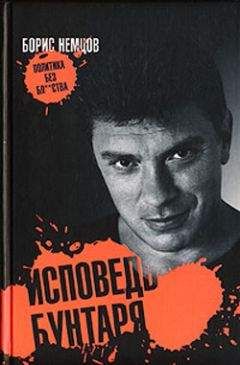Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания
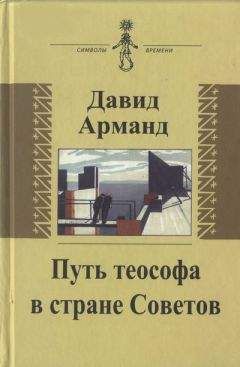
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"
Описание и краткое содержание "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать бесплатно онлайн.
Это исповедь. Исповедь человека высокого духа. Капризный мальчишка сумел воспитать в себе такие не модные ныне качества, как совесть, честь, ответственность перед каждым встречным. Ещё труднее было сохранить эти свойства в кипящих котлах трёх русских революций и под удушающим прессом послереволюционной «диктатуры пролетариата». Голод и унижения, изматывающий труд и противостояние советской судебной машине не заставили юношу хоть на минуту отступить от своих высоких принципов. Он их не рекламирует, они прочитываются в его поведении. Но в грешках молодости герой исповедуется с беспощадным юмором. Об окружающих он пишет без тени зла. Скрытая улыбка не покидает автора на всём пути, в годы голодной сельскохозяйственной юности в детской коммуне, в годы сурового студенчества, безработицы, службы на большом заводе и даже в прославленной советской тюрьме. Друзья и сотрудники окрестили его «рыцарем светлого образа».
Повесть найдет своего читателя среди тех, кто без спешки размышляет о высоких возможностях и красоте человеческой души.
Когда среди ребят поднималось недовольство, мама устраивала беседу. Она призывала нас проявлять к Тоне особую чуткость, терпимость. Она говорила, что Тоня страдает раздвоением личности: чистую сердцевину временами затуманивает какое-то тёмное начало, то, что в средние века считалось вселением бесов, и разве не благороднейшая цель помочь победе доброго начала над злым?
Я думал, что уступками и мягкостью победу над злом мы не одержим. В редких случаях, когда мама разговаривала с ней сердито и властно, Тоня приходила в себя.
Мама сама чувствовала, что изнемогает под тяжестью двойной нагрузки, колонии и Тони. Чем пожертвовать? Нельзя ничем: колония — дело её жизни. А Тоня — испытание, посланное Богом, чтобы проверить её веру, её карму. Она должна вынести обе нагрузки. Она советовалась с Софьей Владимировной, авторитет которой был обычно непререкаем, но это был единственный случай, когда мама не послушалась её совета отправить Тоню в психиатрическую больницу. Тоня была раковой опухолью на теле колонии. Но все сотрудники и ребята очень любили маму и ради неё терпели Тоню.
У мамы был принцип: брать на себя все самые неприятные и тяжёлые обязанности. Например, все охотно брались ухаживать за больными, все готовы были отдавать им часть своего пайка, но брезговали выносить горшки. Мама взяла это на себя. В уборной царила грязь. Она объявила, что уборную будет мыть она. Она надеялась, что тогда люди постесняются там пачкать. Когда возникала потребность в какой-нибудь грязной или неприятной работе, естественной нашей реакцией было: «А почему именно я?» Мама же всегда ставила обратный вопрос: «Почему именно кто-нибудь, а не я?»
Постепенно мы усваивали эту «жертвенную» точку зрения. К осени, когда надо было вывозить на поля «золото» из уборных, в желающих уже было четверо. Приспособили бочку на передок телеги, Олег сконструировал равномерно разливающий лоток, из ведра на длинной палке сделали черпак. Прорезавши дырки в картофельных мешках, изготовили для золотарей защитные «туники». Олег и Всеволод открыли сезон. Через неделю их сменили Костя и я. Другие старшие мальчики в этом не участвовали. Несмотря на туники, от золотарей так воняло, что их приходилось кормить за отдельным столом на кухне. А мы даже несколько рисовались своей профессией.
Угрожающий рост числа больных заставил маму задуматься о собственном враче. Ближайший врач был в Пушкине, в четырех верстах. Больница была перегружена, попасть к нему на приём было нелегко, а заполучить его в колонию не удалось ни разу. Иногда к нам приезжала из Москвы старинная мамина знакомая, врач-педиатр Анна Соломоновна Шлепянова. Но этого было недостаточно. Маме пришла в голову мысль выписать из Петрограда своего отца, моего дедушку Марьяна Давыдовича. По причине преклонного возраста он уже не мог работать в детской больнице. Он согласился, и Мага перевезла его к нам. Сама Мага ушла из колонии, так как её творческие поэтические устремления распирали её, а в колонии писать не было никакой возможности. Дедушка пришёлся нам очень ко двору: он ловко выдавливал фурункулы, клал горчичники и прописывал порошки и микстуры. Кроме того, он имел небольшую бесплатную практику у местного населения. Присутствие старого добродушного доктора сразу придало патриархальность нашей большой семье.
Уехала Женя Малинская, как всегда бросившаяся на наиболее трудную и опасную работу из всех, представлявшихся в данный момент. В Белоруссии начались еврейские погромы. Из Москвы ряд студентов поехал защищать еврейское население. Записалась в дружину и она. Работая там, находилась на волосок от смерти. Однажды ей с некоторыми товарищами самим пришлось скрываться в лесу. Они заблудились и оказались на польской территории. Их окружили и интернировали польские пограничники. Через некоторое время им разрешили выехать в любую страну, кроме РСФСР. Какой-то еврейский комитет предложил Жене эмигрировать в Аргентину. Она согласилась и прожила там до глубокой старости.
МОНО выплачивало зарплату служащим колонии деньгами только менее половины полагающейся, а большую часть — облигациями государственных займов, которые можно было начать реализовывать только через 25 лет. Учитывая ещё, что часть необходимых сотрудников колонии не были утверждены в МОНО и на них денег не давали, а платить им тоже надо было, можно себе представить, сколько денег оставалось на всех. Кроме того, Николай и все технические служащие получали свою зарплату полностью, а преподаватели делили остатки денег между собой поровну. Это были жалкие гроши.
В колонии был второй обыск. Забрали все бумаги, которые нашли у мамы в комнате, в том числе последнюю тетрадь «Дневника колонии».
Но были по этой части и радостные события. Освободили из тюрьмы Ростислава Сергеевича. Впрочем, как потом оказалось, весьма ненадолго.
К Мише и Наташе вернулась из тюрьмы Лена. Саша надолго поехал на Соловки. Наташонку с няней Анютой Лена взяла к себе, Мишу оставила у нас, думая, что здесь за ним будет больше надзору. Но надзор не получался: у мамы не доходили до него руки. Одно время, когда мы, в порядке углубления скаутской работы, разобрали для личного шефства нескаутов, нуждающихся в поддержке, я взял себе кузена Мишутку. Но это был трудный номер. Он был слишком мал, чтобы с нами учиться, и целые дни не знал, чем заняться, балясничал, не умея плавать, катался один на лодке, что было строго запрещено. Он колотил маленького мальчика Костика — сына слепой прачки Агаши, которая пришла на смену Аннушке, дразнил старших ребят, за что нередко сам бывал бит, и всё в этом роде. Единственное дело, которое я мог ему придумать, это собирать стёкла, усеивавшие нашу территорию, чтобы ребята не резали ноги. Единственный моральный успех был, когда он заявил, что его больше не тянет бить из рогатки воробьёв и давить лягушек. В общем, на экзамене шефской работы я провалился.
Зима успокоения
Под Новый год, когда многие ребята уехали в Москву, я заболел малярией. Смерил температуру — 41°, смерил через час с четвертью — 41,4°. Я где-то вычитал, что когда доходит до 42°, человек умирает, так как белки, входящие в его состав, свёртываются. Я сосчитал, что через 1 ч. 42,5 мин. я умру, и… заснул. То, что я пишу об этом в возрасте 71 года, доказывает, сколь ненадёжны прогнозы, основанные на прямой экстраполяции.
В колонии осталось совсем мало народа.
Многие ребята, у кого были родные, ездили в отпуск. А мне некуда было ездить. Мама встретила в Москве Соню Доброхотову. Пути их совсем разошлись, но в знак старой дружбы Соня пригласила меня погостить у них. Учитывая, что я только что и сильно переболел, мама отпустила меня к ним на недельку. Я наслаждался жизнью. Целыми днями я ходил по музеям, особенно по Политехническому, по публичным лекциям. Вечерами часто шёл в театр, хотя и смущался отчасти, потому что был я в лаптях и на брюках у меня было 16 заплат другого цвета, чем первоначальный. Я их сам поставил на уроках, причём белыми нитками и очень этим гордился, но чувствовал, что в театре они как-то не звучат, стиль не тот. Контрамарками в Камерный меня снабжал сам Николай Михайлович Церетели. Помню, что мне понравился «Король-арлекин» и не понравилась «Сакунтала». Все декорации, жесты, костюмы, выдержанные в стиле персидских миниатюр, казались мне жеманными, неестественными. Что мне в Москве понравилось больше всего, так это моя полная свобода и безделье. Я уже забыл, как это бывает.
Хуже было вечерами у Доброхотовых, хотя они за мной ухаживали, старались развлекать, а Миша едва не выжег ради меня себе глаз. Он пустил бегать по воде кусок натрия (он был химик), это было очень забавно. Но натрий внезапно взорвался, и крупинка попала ему в глаз. Скверно было то, что супруги всё время грызлись между собой. Я первый раз наблюдал семейные сцены и не знал, куда деваться. Ссоры возникали поминутно из ничего. Соня и Миша ругались зло, грубо, стараясь друг друга унизить и не стесняясь моим присутствием. Отношения так обострились, они так осточертели друг другу, что я не понимал, как можно так жить. В немногие мирные минуты они читали вслух «Любовь в природе» Вильгельма Бёльше. Они считали крайне полезным просвещать меня в этом отношении. Но я застал их чтение на середине — про любовь у рыб. Я запомнил место про селёдок. Они идут на нерест огромным косяком. Плотно прижимаясь друг к другу. Взаимное трение вызывает у них чувство сладострастия и они выпускают икру и молоку. Так что вся стая ими пропитывается и облипает. Всё это было довольно противно. Я размышлял о том, как у селёдок обстоит с семейными сценами, когда они живут в свальном грехе.
В общем от семейной конституции Доброхотовых у меня осталось тошнотворное чувство. Я вспоминал их пребывание в Ельдигине и думал: «Как могли такие весёлые, такие влюблённые молодые люди дойти до жизни такой?»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания"
Книги похожие на "Путь теософа в стране Советов: воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания"
Отзывы читателей о книге "Путь теософа в стране Советов: воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.