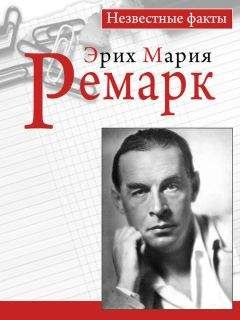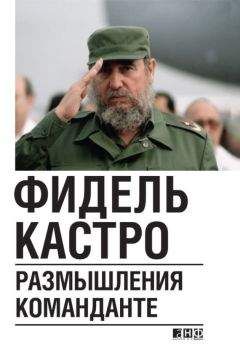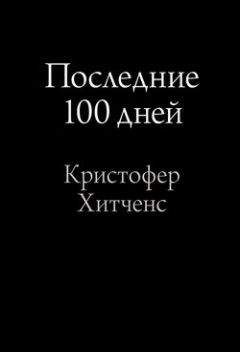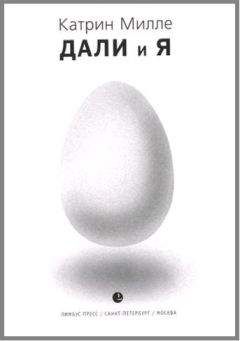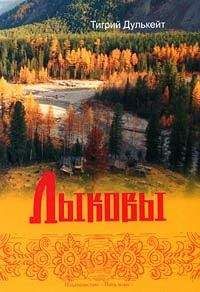ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ
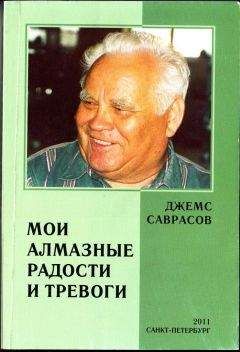
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"
Описание и краткое содержание "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать бесплатно онлайн.
Автор — человек яркий, самобытный, бескомпромиссный. В 1956 г. он, геолог-геофизик, волею судьбы оказался в Западной Якутии, более полувека отдал полюбившемуся ему краю, создал в г. Мирный замечательный Музей кимберлитов. В книге собраны его рассказы о людях, их делах и достижениях, о трудной геологической работе и счастливых песенных досугах, о грустном и радостном. Большой личный опыт и хорошее знание литературы дали ему обильный материал для глубоких размышлений об окружающем его мире. К сожалению, он не дождался выхода своей последней книги.
Книга не оставит читателей равнодушными, особенно геологов.
Так, когда же возникла колония русских людей в устье реки Индигирки: до прихода туда из Якутска первых казачьих отрядов или после того?
Вскоре после открытия реки Лены и основания города Якутска казачьи отряды и стрельцы спустились и к побережью Ледовитого океана. Судя по сохранившимся документам в архиве Г. Ф. Миллера [1] и по другим источникам, впервые на Индигирку вышли енисейский десятник Елисей Буза и тобольский казак Иван Ребров. Это случилось в 1638 году. Иван Ребров поставил в устье реки два острожка. Интересно то, что в своих донесениях он называет Индигирку «Собачьей рекой» [1]. Вероятно, казаки Реброва впервые увидели езду на собаках, и их удивление отразилось в документах («скасках»). Привезли ли с собой русские переселенцы ездовых собак (с ненецкой тундры, к примеру) или они переняли опыт обращения с собаками у местных племен, в исторических документах Миллера сведений не сохранилось. Но то, что жители Русского Устья к приходу казаков из Якутска освоили этот вид транспорта в тундре и пользовались им, сомнений вроде бы нет. Не одни же собаки без людей бегали на берегах Индигирки, чтобы она получила название «Собачья река». В острожках Ребров не оставил своих людей, так как необходимости в этом, видимо, не было.
В 40-е годы на Индигирке были поставлены еще три ясачных зимовья: Верхне-Индигирское (Зашиверское), Ожогинское и Русско- Устьинское. Ставили зимовья, как упоминается в документах Миллера, десятник казачий Мокрошубов и служилые люди Андрюшка Горелов, Ивашка Торхов и Вторка Катаев. По другим данным, зимовьё Зашиверское было построено отрядом служилых людей Постника Иванова в 1639 году. Судя по справке из энциклопедии, зимовья на Индигирке в 1642 году ставили и Семен Дежнев со Стадухиным. В данном случае неважно, кто первый ставил в низовьях Индигирки зимовьё. Интересно то обстоятельство, что оно названо Русско-Устьинское, а не Нижне-Индигирское (как на Колыме — Нижне-, Средне- и Верхне-Колымское). Но если в документе, датированном 1645 годом, зимовье названо Русско-Устьинским, значит, русские здесь уже жили. Вот один из ключей к разрешению многолетних споров, когда же русские пришли на Индигирку.
А. Л. Биркенгоф [2], однако, считает, что западная протока Индигирки изначально называлась «Русской», и потому поселившиеся позднее на ней русские люди и были названы русско-устьинцами . Аргумент этот нельзя считать достаточно веским, ибо кто из почивавших здесь аборигенов мог её так назвать, если они даже представления не имели до прихода казаков, что такое Россия и в какой она стороне.
Одним из доказательств того, что в устье Индигирки до прихода кочей из Якутска не было людей, Биркенгоф считает «скаски» или «списки» потерпевших крушение на море Мокрошубова, Булдакова и орелова в 1649—50-е годы, которые выходили по льду к устью Индигирки, а потом добирались по реке на лыжах и на нартах до Уяндинского зимовья, что в 600 километрах южнее. Если были жители в устье Индигирки, то почему, дескать, казаки не остановились у них, спрашивает А. Л. Биркенгоф.
Объяснение здесь простое: казаки должны были возвращаться в Якутск, а путь обратно был только один — через Уяндинское зимовье, откуда уже был освоенный «тракт» через верховья Яны на Алдан и в Якутск. (Именно этим путем шёл в 1636 году Постник Павлинов из Якутска: по притоку Алдана реке Тукулан, через горы на реку Сартана, по ней в долину Яны, и далее по Адыче и Туостаху к Индигирке.) В этом зимовье был и воинский гарнизон, и какие-то запасы продуктов. И не так далеко обитали подъясачные скотоводы-якуты и кочевали оленеводы эвенских племен, у которых можно было арендовать лошадей для продвижения к Алдану и приобрести мясо. Ждать оказии на море было бесполезно, её могло и не быть. Проходящие кочи из Якутска шли на Колыму и в протоках Индигирки не задерживались. А прокормить десятки сторонних людей русско-устьинцы просто не могли, не было у них в достатке даже рыбы — основной их пищи. И не было условий для жилья и запаса дров. А вот дать нарты и лыжи, на которых Мокрошубов и другие уходили к Уяндинскому зимовью, они могли, может, даже сопровождали казаков с упряжками собак. Сами казаки зимой в тундре построить нарты, разумеется, не могли. Нелишне заметить, что они не задержались и в Олюбинском зимовье, которое находилось на полпути к Уяндинскому в лесной зоне, где кто-то обитал и где жилье и дрова не были такой неразрешимой проблемой, как в тундре. Выходить с Индигирки потерпевшим крушение надо было только зимой, не ждать лета, это очевидно.
О том, что индигирцы помогали попавшим в беду казакам и служилым людям, есть и другие свидетельства. В 1652 году «стольнику и воеводе Михаилу Семеновичу Лодыжинскому» в Якутск поступает донесение «от служилого человека Ивашки Овчинникова о разбитых в Омолоевской губе непогодою кочах и что они сидят в тундре». И несколько позднее донесение от Ивашки Кожина «о разбитом в Омолоевской губе до основания коче и о разнесённых запасах». Долго потом сидели в тундре потерпевшие крушение, если только зимой 1653 года их вывезли «нартами на Индигирку». Кто их вывез и куда, в какое место на Индигирке, сведений в документах Миллера нет, но, надо полагать, без русско-устьинцев тут не обошлось.
Но почему в «скасках» казачьих отрядов и в донесениях «служилых людех», сохранившихся в документах Миллера [2], нет упоминаний о русских жителях в низовьях Индигирки и Яны? Ведь вполне очевидно, что казаки с ними встречались, у них находили приют и посильную помощь. Одно из наиболее вероятных объяснений этого — нежелание русских поселенцев афишировать свое жительство на Яне и Индигирке. Только недавно они ушли от тяжёлой государевой руки, нашли безопасное место на земле, где им не грозит смерть, их никто не облагает податями и насильно не заставляет работать на разных повинностях, и вдруг появляются служилые государевы люди, которые снова могут ввергнуть их в кабалу. Само собой разумеется, они пытались избегнуть этой участи. Может быть, они договорились с казаками, чтобы те не выдавали их присутствия на Индигирке (догадку об этом высказывает и С. Н. Азбелев [9]). Да, вероятнее всего, так оно и было, и казаки честно блюли договор, умалчивая о том, кто им помогал. Если бы их вывозили аборигены оленьими упряжками, то они бы в «скасках» об этом упомянули, а о собаках — умолчание! Но эвены и якуты на собаках не ездили, чукчи обитали далеко, так что вывод тут очевиден. Может быть, в Якутске и слышали о каких-то русских в дельте Индигирки, но просто не трогали их, не заставляли платить ясак, как эвенов, якутов и чукчей. Ещё и потому, что взять с них было нечего. Охотой на пушных зверей в то время они почти не занимались, домашних оленей не держали, питались рыбой и дичью. Поэтому их промыслы не представляли интереса для государевой казны.
Есть, однако, мнение, что в Якутске вроде бы знали о русском поселении в низовьях Индигирки. Р. В. Каменецкая [4] пишет, что будто бы сохранился документ об уплате налога 142-мя русско-устьинцами в 1650 году, среди которых были устюжане, усольцы, мезенцы, белоозерцы, колмогорцы, пинежане, новгородцы. На кочах, а местами на собаках, эти люди «двигались потоком в поисках пушных угодий», все дальше пробираясь вдоль побережья на восток, пока не дошли до Индигирки. По сути, может быть, так оно и было, но существование документа «об уплате налога» русско-устьинцами в 1650 году сомнительно. Не могли так подробно знать в Якутске о русско-устьинцах, чтобы ещё обкладывать их налогами.
Здесь совершенно явная путаница. Оброчные книги в Якутске действительно содержат упоминание, что в 1650 году с Индигирки уплатили оброк 142 человека. Но это промышленные люди, пришедшие на соболиный промысел в лесную зону Индигирки, а вовсе не русско-устьинцы. А то, что эти люди тоже с севера исконной России, не удивительно. С других мест России попадали в Якутию немногие.
Впрочем, если упомянутый документ достоверен, то это еще одно свидетельство о древности заселения Русского Устья. К 1650 году не могла там образоваться столь обширная колония русских только из мангазейских и енисейских казаков Бузы, Реброва, Дежнева, Стадухина, они все были на счету в Якутском воеводстве.
У Д. Н. Анучина есть интересная мысль, что часть предков русско- устьинцев переселилась из Мангазеи [9]. Это не противоречит историческим документам, поскольку первопроходцами на Лене были мангазейские казаки [6]. В 1619 году мангазейские власти собрали отряд в 40 казаков во главе с Пантелеем Демидовичем Пяндой. Отряд двинулся из Туруханска вверх по Нижней Тунгуске и через три года вышел к Чечуйскому волоку на Лену. Нелёгок был путь, если он потребовал трехлетнего срока!
На реку Лена с Нижней Тунгуски отряд Пянды перешёл по зимнику длиной всего 12 километров с выходом на Лену где-то в районе нынешнего Киренска [11]. Казаки (вроде бы) построили новые струги, спустились по Лене то ли до нынешнего Якутска, то ли до Олекминска, и, повернув обратно, обследовали верховья реки. Осенью того же года казаки Пянды с Лены перешли на Ангару и на следующий год возвратились в Мангазею. Л. И. Шинкарев пишет, что они вернулись в Енисейск, но вышли из Туруханска, а не из Енисейска. Разве, что до Енисейска им было ближе, и, возвращаясь, они направились к нему [11]. Сведения об отряде Пянды, о местах его перехода с Тунгуски на Лену и о возвращении обратно противоречивы. Неясно даже, вернулся ли он в Мангазею или впоследствии продолжил работу на Лене вместе с енисейскими казаками. Но сохранились источники, где упоминается, что весть о «великой реке Лене» в Москву доставил всё же мангазейский воевода Андрей Палицин в 1633 году [1].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"
Книги похожие на "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "ДЖЕМС САВРАСОВ - МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ"
Отзывы читателей о книге "МОИ АЛМАЗНЫЕ РАДОСТИ И ТРЕВОГИ", комментарии и мнения людей о произведении.