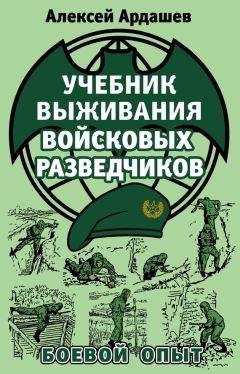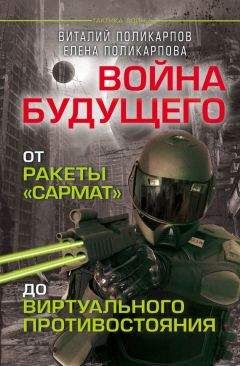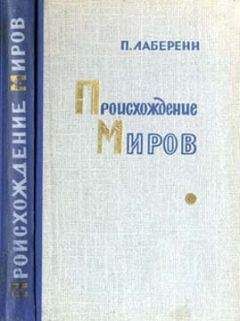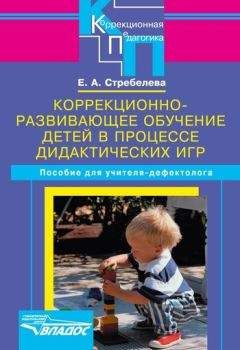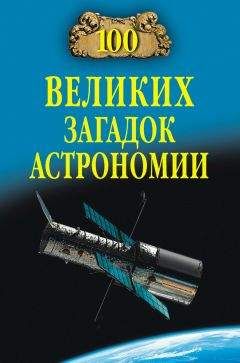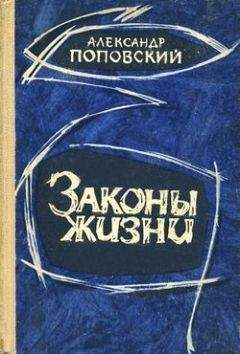Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Описание и краткое содержание "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя" читать бесплатно онлайн.
Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».
В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.
В тексте послесловия имеется развернутое объяснение, каким образом возникший на иностранной почве миф о Николае Мирликийском обратился в «московские любимые легенды». Ремизов описывает процесс трансформации византийских житий Николы в русскою легенду как естественный и органичный процесс: «На Руси были распространены все жития Николы: „Иное“, Метафраста и сирийское, неизвестное на западе, „Николай-странник“. В России обращались все чудеса, как совершенные при жизни, так и по смерти, вошедшие в греческие собрания и затем переработанные по-латыни, и три возникших на Западе: о воскрешении зарезанных детей, о трех сосудах и обманутом еврее. Чудеса пересказывались на московский лад, как свои московские легенды»[514].
Безграничность Святого Образа Николы наглядно демонстрируют полотна живописцев: «За пять веков с IV в. по XIII из житий, чудес, слов и величаний отпечатлелся образ Николая-чудотворца, украшенный всей чудесностью, какая разлита была в горчайший век в Византии. Взята была вся духовная сила от подвижников и чудотворцев современных и бывших <…>. И художники по верному чутью, не прибегая ни к какой истории и археологии, а в обстановке своего времени под своим небом и на своей земле живописно сохранили образ чудотворца для всех времен и народов: Фра Анжелико, Франческо Песелино, Джентиле-да-Фабиано, Пахер, Жан Фукэ, Жан Бурдишош, Жерар Давид, Дюрер, Моретто-да-Брешио, Отто Ван-Веен, Ян Стеен, Кранах Старший, Корнелий Шут, Симон Вуэ, Репин. А беспризорная человеческая доля и неверная вера, и молитва овеяли чудотворный архангелов образ невечерним светом»[515].
Пользуясь обширной библиографией, Ремизов показывает, что архиепископ Николай Мирликийский в подлинном смысле герой мифологический, и в этом заключается его основная особенность: «От VIII в. изображение Николая-чудотворца. Вот и все. И только сказки и сказочные чудеса. И чтобы принять их не за „сплетение басен“, а как действительно живое и действующее — ведь сказки и есть символы животворящего духа! — надо или родиться с детским зрением и слухом, еще не оторвавшимся от духовного мира, или периодически, как диета, беспокойным испытывающим „оводом“ (Сократ) омолаживать свое трезвое — свое гордое. А как часто просто одряхлевшее „разумное“ мышление. Бесспорный и в себе не сомневающийся „ум“ (Гоголь), чтобы „вдруг проснуться к самому себе“ (Плотин)»[516].
В подтверждение тому, что культ Николы в России не имеет временных и даже идеологических границ, в комментариях к книге «Образ Николая Чудотворца» Ремизов приводит образец новейшей мифологии, предваряя его словами: «А вот до чего крепок и жив образ Николы — единственный исконный русской веры: Темною ночкою по русскому полю / Бродит Ильич с чудотворцем-Миколою. / Шел Владимир сын Ильин в простой сермяге, / От подков каленых тихий перезвон, / Отдавали сосны с елями ему поклон. / Володимир, сын Ильин, тяжелый заступ брал, / Волю вольную в земле искал… / Я. Шведов, Разлив. М. 1925»[517]. Думается, что этот мифологический пример мог бы немало возмутить И. А. Ильина. Однако абсурдность стихотворения позволяет не только иронически опровергнуть сформулированный философом принцип — «невообразимое да не изображается», — но и задуматься на тему целей творчества.
И, наконец приведем два последних абзаца, завершающих раздел комментариев, которые, собственно, и содержат принципиальный ответ Ремизова Ильину: «О Николае-Чудотворце исторических материалов нет, есть только легенды. И надо было „воссоздать“ эти легенды, из которых выступил бы живой образ, самый человеческий из человеческих — Никола. Легенды собраны в моей книге „Три серпа“ Изд. Таир, Париж, 1930[518]; сказки в моей книге „Звенигород окликанный“, Изд. Атлас, Париж, 1924 г. То, что пишется, пишется не для кого и для чего, а только для самого того, что пишется. И если результат работы хоть в какой мере приближается к замыслу, задача исполнена. А понятно это или непонятно, к делу не относится, потому что, как нет одного понимания, так нет одной оценки — на всех не угодишь. 2. III. 1931. Paris»[519].
Возникшие противоречия стали примером не столько узкопрофессиональных дискуссий между критиком и художником, сколько свидетельством изменения культурного горизонта — в пору, когда в пределах богословского поля деятельности наиболее остро обозначился вопрос о противостоянии религиозных канонов надвигающемуся модернизму. В полемическом диалоге философа и художника, выходящем далеко за рамки анализа отдельных литературных произведений, мы различаемы прямо противоположные системы мировоззренческих координат: с одной стороны, воззрения религиозного философа, подходившего к искусству XX века с каноническими требованиями; с другой — творчество художника, который хотя и не стремился открыто манифестировать творческие принципы, всегда шел в литературе своим собственным путем.
Глава V. СНОТВОРЧЕСТВО
Сон и реальность
В основе мировоззрения А. М. Ремизова, формировавшегося в русле символистской эстетики, лежало признание высшей ценности искусства. Неслучайно, писатель считал, что особая семантическая связь существует между искусством и сновидением, и, более того, «искусство как сновидение глубже сознания»[520]. Запечатленное памятью сновидение отождествлялось им с текстом-источником. Прием литературной обработки сна, который Ремизов активно использовал, обращаясь к фольклорному или мифологическому материалу, был сродни литературному пересказу: «Сказка и сон — брат и сестра. Сказка — литературная форма, а сон может быть литературной формы. Происхождение некоторых сказок и легенд — сон»[521]. Сновидение как индивидуальное бессознательное творчество и фольклор как коллективное мифотворчество подчинялись в ремизовской аксиологической системе беспредельно созидающей воле и необузданной фантазии.
Начальным опытом игрового остранения действительности, которое позволяло осмысливать тончайшую сейсмологию внутренних, душевных состояний, стал для Ремизова жанр «видения» (близкий таким литературным произведениям первой четверти XIX столетия, как «арзамасские» «Видение в какой-то ограде» Д. Н. Блудова или «Речь Николая Ивановича Тургенева по случаю отъезда Дмитрия Васильевича Дашкова»[522]). В обратной перспективе ремизовского творчества вологодские «Некрологи»[523] явили собой одну из начальных попыток оформления оригинального жанра литературного сна. «Некрологи», которые впоследствии сам автор называл своими «первыми литературными без-образиями»[524], дополняют список его ранних лирических произведений, написанных в экзальтированной манере и в форме ритмизованной прозы. В «Иверне» зрелый Ремизов мастерски преобразит эти тексты, отказываясь от поэтической строки, несколькими штрихами придавая повествованию внятность и образность.
Опубликованные в 1908 году первые литературные сны Ремизова сразу же вызвали немало критических замечаний — как по поводу самого жанра, так и относительно корректности упоминания реальных лиц в фантастическом контексте. Писателю даже пришлось выступить в защиту собственного снотворчества (в письме к Я. М. Цвибаку от 30 мая 1926 года): «Гонение на употребление знакомых мне совершенно непонятно. Вы только подумайте! Д. С. Мережковский с начала революции, (вот уже 10 лет на носу, как Тутанкомоном упражняется, М. А. Алданов на князьях и графах собаку съел, треплет всяких зубовых и в ус не дует, и ничего, пропускают! А мне — нельзя помянуть С. П. Познера! А чем он виноват, что он не „фараон“ и не „граф“ и никакая придворная птица. Тоже и во снах: фамилии не случайны! М. П. Миронов снится к дождю, Н. А. Теффи к ясной погоде и т. д.»[525]. Ремизов был убежден, что сон является такой же данностью, как и реальная жизнь, и поэтому его содержание не может быть изменено или проигнорировано. Только спустя полтора десятка лет значимость «плавного перехода от мира снов к миру „реальности“», характерного «для мифического мышления», утвердится в опыте западноевропейской философии: «…и в чисто практическом смысле, и в установке на реальность, которую человек принимает не просто в представлении, но в действии и деятельности, определенные сны получают ту же силу, значение и „истину“, как и события, переживаемые наяву»[526].
Художественное мастерство позволило А. М. Ремизову создать литературные обработки снов, сохранявшие неуловимые, ускользающие события «зазеркального» бытия. Их подлинность тесно переплетается с абсурдом. Эта обратная связь фантастического и настоящего выстраивается благодаря художественному мастерству писателя и его желанию зафиксировать достоверные события иного мира. Интересно оценить эту грань, сравнив ранние «опыты» в области литературной «гипнологии»[527]: публикацию первого цикла «Под кровом ночи» во «Всемирном вестнике» за 1908 год и опубликованные несколькими месяцами позже одноименные циклы в журналах «Золотое Руно» и «Весна». Первые еще не лишены осмысленного философствования, художественного описания и рационального смысла, в отличие от последующих, как будто очищенных от навязанных интерпретаций дневного сознания. Следует отметить, что писатель скептически относился к рационалистическому толкованию сновидений, принятому в психоанализе, хотя и признавал заслуги З. Фрейда в утверждении сна «как факта человеческой жизни»[528].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Книги похожие на "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Обатнина - Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя"
Отзывы читателей о книге "Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя", комментарии и мнения людей о произведении.