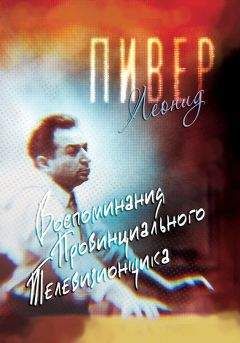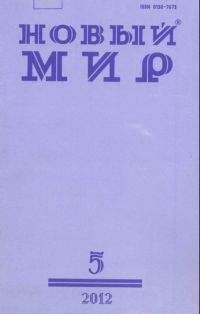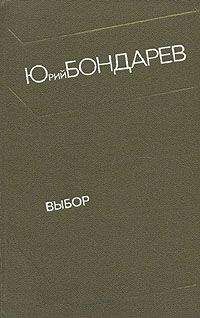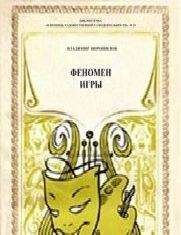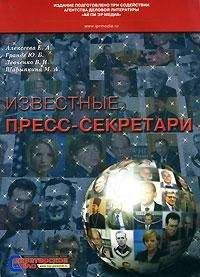Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Описание и краткое содержание "Старый колодец. Книга воспоминаний" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания известного искусствоведа Бориса Моисеевича Бернштейна охватывают большой период в жизни нашей страны: от предвоенных лет до начала 90–х годов. Столь же широк и географический диапазон: предвоенная Одесса, послевоенная Польша, Ленинград, Таллинн, Москва. Повествование насыщено эпизодами драматичными и курьезными, но всякий раз за ними проступает исторический фон. Автор рассказывает о своем детстве, об учебе в ЛГУ у видных педагогов, чьи имена сегодня стали легендой, о художественной жизни Эстонии с ее дерзкими «прорывами», о своей преподавательской деятельности и участии в издательских и выставочных проектах. В ряду героев книги — музыкальный педагог Петр Столярский, искусствоведы Николай Пунин, Юрий Овсянников, актер Александр Бениаминов, телеведущий Владимир Ворошилов, литературовед Юрий Лотман, философ Моисей Каган и множество других, менее известных, но не менее колоритных персонажей.
Пинхос двигался к диссидентству — так я думаю — как марксист — раскольник. Такова была стартовая позиция. Затем уже логика движения сделала сначала его, а потом и его сыновей либералами — демократами. И Жозефина пошла за ними и с ними. Беда ходила вокруг. В конце концов обоих братьев не миновала ни тюрьма, ни лагерная каторга… Повторяю, я не знаю, какова была мера ее участия. Не делилась она со мной. Иногда всплывали в разговоре какие‑то детали, но цельную картину составить из них было невозможно. Не рассказывала подробно о диссидентской жизни не потому, что мне не доверяла или опасалась моей болтливости. Просто считала необходимым соблюдать правила. И я уважал эту ее позицию.
Но я знаю, что и там, внутри движения, ей было непросто. В конце концов, любое сообщество, пусть вдохновленное самой высокой идеей, сделано из людей. Если это сообщество диссидентов, то составляющие его люди находятся под постоянным напряжением и вынуждены часто, чуть не каждый день, принимать моральные решения, которые оборачиваются решениями экзистенциальными, — ситуация, неведомая не только обывателю, но и лихому критику диссидентства из новейших времен. В поле высокого напряжения человеческие качества проступают явственней. Я имею в виду — любые качества.
Чекисты знали свое дело, умели наносить удары по наиболее чувствительным местам, ставить свои жертвы перед невыносимым выбором. Я помню момент, когда ближайшие друзья Жозефины в критическом противостоянии охранке повели себя порахметовски, если даже не более фанатично. Впрочем, война с властью велась на поле, где правила менялись непредсказуемо, отсюда и неожиданные ходы диссидентских стратегий. Складывались ситуации, когда режиму в его глобальных играх бывало невыгодно держать диссидентов в тюрьмах и лагерях. Владимир Буковский, из передового отряда, писал позднее: «Аресты и суды стали лишь крайней, вынужденной мерой, и очень часто заставить их пойти на это было для нас своего рода победой»[9]. Победители, выбрав тюрьму и каторгу, подставляли под удар не только себя, но и своих близких. Этого Жозефина не могла ни понять, ни принять — гуманность для нее была наивысшим принципом, императивом императивов. А может быть, сюда примешивалось чисто женское желание защитить и сохранить?
Вот еще отрывок из ее письма.
«24. VI освободился и приехал в Эл — сталь Кирилл (Подрабинек. — Б. Б.). Он отсидел 51/2 лет, из них 41/2 в закрытой тюрьме или карцере. В апреле с ним была беседа, во время которой майор любимого комитета заверил его, что рецидива не будет, чтобы К. перестал распространять „клеветнические измышления о возможности третьего срока". При этом с К. не требовали ни раскаяния, ни заверений. До сих пор так не выпускали никого. В чем дело? У нас несколько предположений, в том числе и такое: если бы ему дали третий срок, он бы там и умер, и скоро, т. к. в левом лёгком каверна…. Кирилл худ, сутул, грустен, но не озлоблен и… больше ничего не боится. В декабре должен освободиться Саша (Подрабинек. — Б. Б.) (с ним уже была беседа и его тоже заверили…), у него тоже туберкулёз. Мне кажется, что их тут подлечат (неудобно отправлять с палочками Коха) и вышлют. Дай Бог!»
В этом «дай Бог» была выражена ее давняя позиция — она не хотела мученичества, которое выбирали для себя, и не только для себя, братья Подрабинеки.
Были и другие затруднения. В диссидентском движении складывались свои иерархии, свои неравенства — по шкале заслуг, жертв, близости к лидерам, реальной или симулируемой. Это тоже было Жозефине не по сердцу. Более того, она старательно избегала приближаться к вершинам.
«…Вообще ни знакомством, ни дружбой, ни родством ни с кем не горжусь. Даже с А. Д. Сахаровым не познакомилась (хоть Саша Подрабинек очень склонял меня к этому), чтобы не хвастаться этим».
Таково было ее моральное чистоплюйство или, если угодно, врожденный аристократизм. Но с движением не порывала.
Тем временем настали другие времена.
* * *Мне давно следовало сменить местоимение — «она» на «они».
Вскоре после того, как Жозефину с матерью судьба привела в Электросталь, где они никого не знали, добрые люди познакомили их с тамошней учительницей, вообще‑то москвичкой, Евгенией Соболевой. Это была удивительная находка. Когда встречаешь таких людей, как Женя, защитные механизмы интеллекта отказывают. Тут, у витрины Творца, перед демонстрационным экземпляром, начинаешь верить, будто человечество может стать лучше, или может быть лучше, так сказать, виртуально. Возможность почему‑то не реализуется, но она существует! Вот она: умница, безупречно порядочная, наделенная, сверх неизбежных чувств, непререкаемым чувством долга, чувством справедливости, тончайшим чувством такта, деликатностью, неспособная к измене принятым принципам гуманности и именно поэтому способная к разумному компромиссу в межчеловеческих отношениях… Словом, такие как Женя являются в мир, чтобы скрыть концептуальные огрехи творения.
Вот и Жозя говорит: «Опора моя — это Женька, которая ангел — и как её земля терпит? Не даёт она мне ни сдохнуть, ни гражданский подвиг совершить».
Я не могу сказать, что Жозефина и Евгения идеально подошли друг другу. Тут требуются какие‑то более сильные слова, мне не удается их подобрать. Большую часть жизни они прожили рядом, вместе, в редком взаимном уважении, понимании, внимании и единомыслии. Ссорились ли они когда‑нибудь? Я такого не видел, но быт есть быт. Вот фрагмент позднего письма Жозефины.
«Память, конечно, стала хуже (и давно), но избирательно, а так как я всегда была рассеяна, то идиотические выходки бытового характера („Где кошелек?“, „Куда делся проездной?“, „Здесь вчера лежала газета со статьей Е. Боннэр, и ее нет. Это ты…“) раздражают…»
«Это ты» относится, конечно, к Жене. Совместной жизни в течение десятков лет без неизбежного «этоты», наверное, не бывает. Но высокая дружба, которая связывала двух замечательных женщин, Жозефину и Евгению, случается редко.
«Что делать? — писала Жозя однажды в трудную минуту, когда казалось, что ни с кем и ни с чем она согласиться не может, все не так. — Жить дальше, благо рядом единомыслящая Женька».
Единомыслящая Евгения не давала ни сдохнуть, ни гражданский подвиг совершить. Была заодно, разделяла способ видеть мир и спасительно удерживала от крайностей. Ну, не знаю я, насколько деятельно Женя принимала участие в диссидентском движении, — издали не видно было. Полагаю, что не вовсе была в стороне. Но в горбачевские и постгорбачевские времена, когда демократическая и либеральная интеллигенция вышла из подполья, они точно были вместе и поступали сообща.
Митинги, предвыборная пропаганда, встречи с демократическими кандидатами — наконец‑то свободная, открытая политическая активность. Их кандидатом и «подопечным» был профессор Юрий Афанасьев, лицо известное, поначалу ректор Архивного института, а затем создатель Гуманитарного университета в Москве, один из самых видных тогда персонажей в демократическом движении. Жозя и Женя бились за его успех по — львиному.
То были недолгие годы больших ожиданий. Но и сомнений хватало.
«Что касается моей общественной физиономии, то она просит кирпича: старая дура (твоя старшая кузина) написала статью в „Литгазету". Резонанс такой, что доктор философских наук В. Шубкин прислал мне письмо с приглашением „на рандеву“, подписав его „Ваш Шубкин“. Не написал только, с вещами являться или как…»
Статья касалась коренных пороков системы образования и была опубликована — время было такое, либеральная заря заливала горизонт.
А вещи стали собирать позднее, в 1992–м. По собственному почину. Почему?
Я не устану повторять, что исторические события любого масштаба — от глобальных потрясений до поворотов в индивидуальных судьбах — никогда не бывают следствием одной причины. И на этот раз их было много.
Поводы были всякие. Экономическая ломка сказывалась на «простых людях» наиболее болезненно — кому до них было дело! Пенсионный быт двух отставных учительниц становился все ближе к постыдной нищете. Патриотически настроенные интеллектуалы, незатейливая подворотня и свежие политические деятели все чаще вспоминали проверенный рецепт спасения России — посредством избиения жидов. Друзья, осевшие в Израиле, звали и обещали поддержку.
Но первее всех причин, наверное, была та, что надежды, которые составляли смысл движения, деликатно называемого диссидентским, — эти надежды не сбывались. Возможно, там, в диссидентско — интеллигентском сознании, видение свободной и демократической, поистине современной России было — в который раз — утопией, не учитывающей исторических, социальных, социально — психологических, экономических и многих других реалий страны. Казалось, что Россия (Узбекистан, Белоруссия, все) хотят и готовы быть свободными парламентскими демократиями. Может быть — лучшими из демократий, ведь за плечами какой опыт! Оказалось, что не хотят и не готовы. Точнее, хочет и показывает готовность некоторое меньшинство. А остальные…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Книги похожие на "Старый колодец. Книга воспоминаний" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Бернштейн - Старый колодец. Книга воспоминаний"
Отзывы читателей о книге "Старый колодец. Книга воспоминаний", комментарии и мнения людей о произведении.