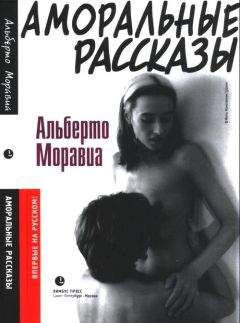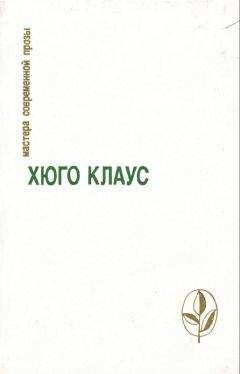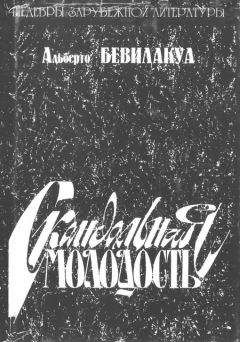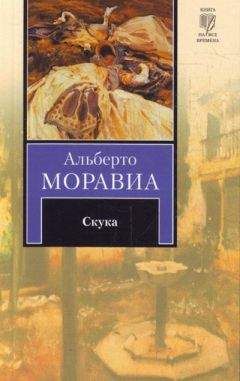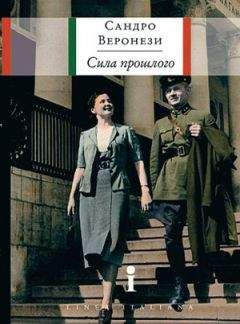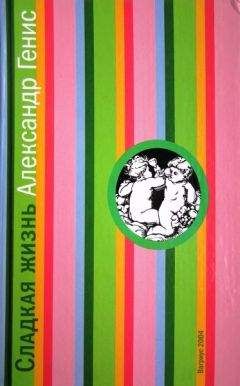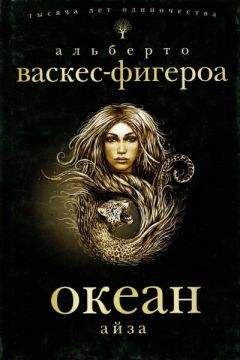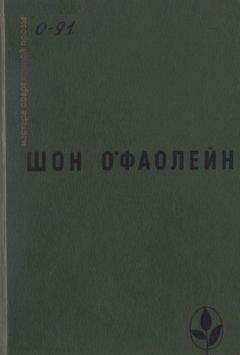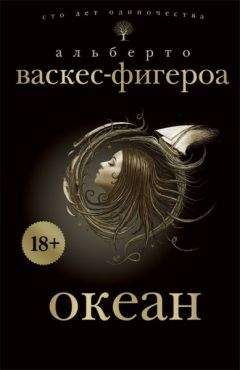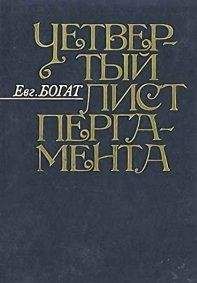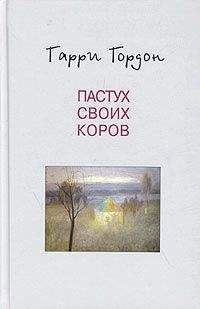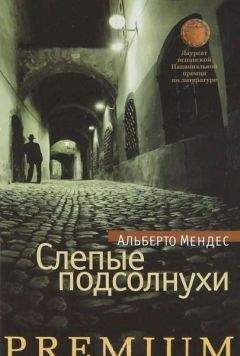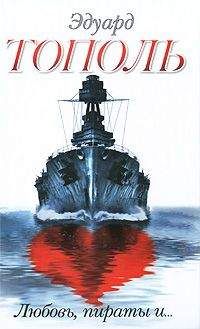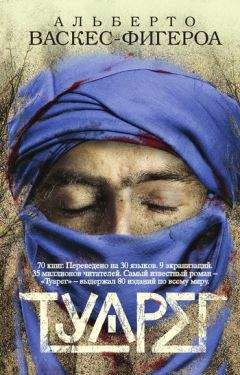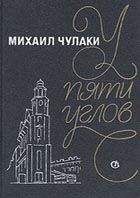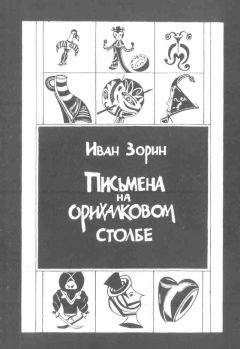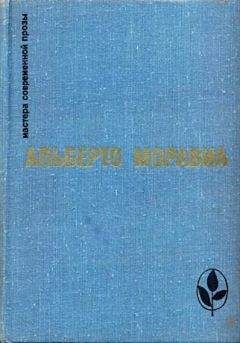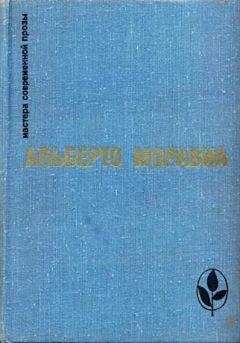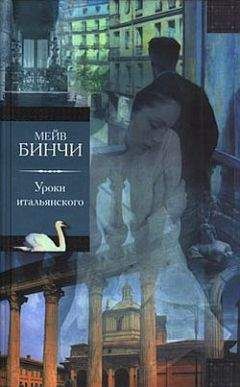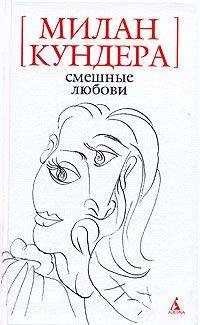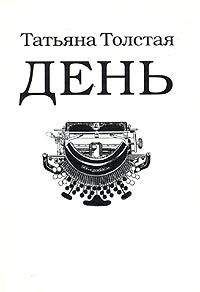Альберто Савинио - Вся жизнь
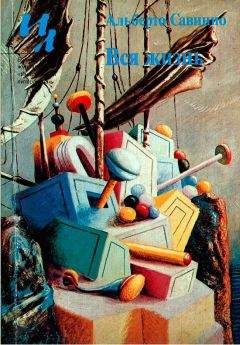
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вся жизнь"
Описание и краткое содержание "Вся жизнь" читать бесплатно онлайн.
В книгу вошли рассказы из сборников разных лет итальянского писателя Альберто Савинио и ряд эссе из книги «Новая энциклопедия», где автор излагает свои глубокие, оригинальные, подчас парадоксальные суждения о явлениях человеческого бытия и культуры.
Proust — Пруст
Всего Пруста я одолеть не смог. Из каждого цикла я прочел один, от силы два тома. Да и те не до конца. Служит ли это препятствием для оценки творчества Пруста? Не думаю. Творчество Пруста обширно, но единообразно. От книги к книге можно наблюдать, как оттачивается литературное мастерство Пруста, но не мысль и не ум его. Я же верю в совершенствование мысли на протяжении творчества одного и того же писателя. За примерами не надо далеко ходить: достаточно одного Флобера, прошедшего путь от «Искушения святого Антония» до «Бувара и Пекюше».
Я не собираюсь рассматривать творчество Пруста с поэтической стороны. Скорее — с психологической и светской. Кому-то такой подход может показаться неверным; я и сам это признаю. Но коль скоро речь идет о французском авторе, к тому же не о поэте, а о романисте, это, на мой взгляд, единственно возможный подход. Значение французского романа заключается главным образом в его историчности и документальности. Кроме нескольких авторов, кроме нескольких книг, стоящих особняком и представляющих собой знаменательные и непреходящие явления литературы со всех точек зрения и прежде всего с точки зрения поэтической (как, скажем, «Госпожа Бовари»), вся французская романическая литература свелась бы на нет, если бы не изображала «историю нравов».
В этом французы проявляют себя как народ, в котором удивительно развито чувство истории и нации. С величайшим радением пекутся они о жизни и здоровье своей расы, определяя ее черты, следя за ее изменениями, подтверждая документально ход ее истории. Впрочем, вся романическая литература, не только французская, изображает прежде всего «историю нравов». Именно такова предпосылка возникновения русского романа; ту же цель преследуют немногие немецкие романы; не отличаются от них и задачи горстки итальянских романистов (вроде Фогаццаро, Роветты и иже с ними; что же до авторов первого ряда, таких, как Манцони, Ньево и Верга, то их творчества я не касаюсь, ибо оно стоит выше весьма низкого в целом уровня «истории нравов»). Однако что мы видим сегодня? Сегодня русские находят сюжеты в Америке или на Капри (эта статья писалась в 1923 году); немцы (включая Маннов) описывают не жизнь немецкого народа, а ее иллюзорную, искусственную сторону. Что же касается нынешних итальянских романистов… Меж тем во французской литературе подобного исчерпания материала и писателей не наблюдается. Французский роман по-прежнему следует своим путем, чешет, так сказать, напрямик, точно железная дорога по заданному маршруту. Скажу больше: в то время как у нас «история нравов» остановилась на «Флорентийских хрониках»[57], во Франции хронисты невозмутимо продолжают составлять свои описи и документации. В других местах от хронистов не осталось и следа, а если они каким-то чудом и сохранились, то опустились, как говорится, до того, что освещают в газетах полицейские и больничные «будни». Во Франции же хронисты выжили и называются теперь романистами. Вся интеллектуальная французская жизнь разворачивается в виде хроники: и искусство, и литература, и медицина, и наука, и светская жизнь. Не стану спешить с выводами. И решать, достойны ли французы подражания в этой их хроникомании. Я всего лишь привожу некоторые факты. И не просто из любви к фактам, а с целью попутно проиллюстрировать творчество одного из последних и крупнейших французских chroniqueurs[58]: Марселя Пруста.
Душа и тело. 1940–1941
Преуменьшаю ли я значение писателя и оскорбляю ли Пруста, называя его chroniqueur? Не думаю. Одна из наивысших и настойчивейших похвал, расточаемых в адрес Пруста его почитателями, состоит именно в том, что в нем усматривают скрупулезного и правдивейшего бытописателя французского общества. Добавлю, что Пруст описывает далеко не все французское общество, а лишь часть его; к тому же истощенную, чахнущую, исчезающую часть. Видимо, и сам Пруст ощущал агонию того общества, которое он описывал с такой бесконечной симпатией и родственным чувством, — и вот уже в стиле хроникера проступает нежная грусть, умиленное сострадание, почтительная заботливость человека, снимающего с лица умершего гипсовый слепок.
С другой стороны, это объясняет тревогу и упорство, с которыми Пруст спешил завершить свое документально-автобиографическое сочинение. Беспокойство Пруста было вызвано не только неумолимо поглощавшей его смертью, но и боязнью не довести до конца историю его умирающего общества, память о котором иначе утратится навсегда.
Поэтому было бы неверно называть творчество Пруста автобиографическим: помимо того, что это творчество автобиографично, оно еще и биографично, даже многобиографично. Это зеркало характеров, зеркало нравов, зеркало общества. И коль скоро это общество находится при последнем издыхании и не сегодня завтра может бесследно исчезнуть, то зеркало, навеки и неизгладимо отразившее облик умершего, становится прочным залогом долгой жизни великого хроникера.
Едва ли в мировой литературе отыщется другой такой писатель, который, подобно Марселю Прусту, был бы так прочно связан со своим обществом. Мне могут возразить: а как же Бальзак? Бальзак был прежде всего фантазером, а над реальностью его персонажей витает дымка мечтательно-романтической натуры их автора. Мне заметят: а как же русские авторы? Отвечу, что, кроме Гоголя (которого, впрочем, нельзя причислять к романистам, ибо он возносится до эпоса), другие русские писатели, такие, как Толстой и Достоевский (если ограничиваться самыми крупными именами), преследовали либо социальные, либо мистические цели: искупление, постижение души и так далее. Что же касается Пруста, то он жил как вместе с обществом, так и для общества, которое отобразил в своих романах. Он не ставил перед собой иной цели, кроме досконального и законченного описания своих светских персонажей, списывая их непосредственно с натуры или же создавая похожих на них призраков. Его творчество начисто лишено заранее намеченной цели; оно не разрабатывает никакой концепции, не выдвигает никаких принципов, не ссылается ни на какую идею, не содержит никаких посылок: ни моральных, ни социальных, ни этических. Некоторые его хвалебщики утверждают (эту находку, если не ошибаюсь, следует приписать Полю Морану[59]), будто творчество Пруста отличает некая моральная, даже моралистическая направленность; а выражается она прежде всего в беспощадном изобличении Прустом грязных сторон своего общества, его пороков, его особенных нравов, половых аномалий отдельных его персонажей и в первую очередь барона Шарлюса. Однако в доскональном и обильном описании пороков вообще, и сотадизма[60] в частности, я, наоборот, усматриваю явное наслаждение, испытываемое Прустом-писателем и Прустом-человеком. Из того немногого, что мне известно о его жизни, можно заключить, что он был естественно предрасположен не к здоровой, животной жизни, а к тем ее извращенным формам, которые именуются утонченностью, изысканностью, декадентством и так далее.
В книгах Пруста, кроме собственного описания событий и типажей, ничего больше нет. Заурядная хроника. Самодельная документация. Сама литература почти исчезает у этого литературнейшего из писателей. Вывереннейший, изысканнейший стиль Пруста нацелен только на то, чтобы уплотнить документацию. А как же иначе! Ведь в конечном счете Пруст был художником и никогда не стал бы писать как афонский монах. Впрочем, знаменитая прустовская самозабвенность, с избытком насыщающая его романы; их полная неподвижность; поэтические озера, разбросанные то тут, то там среди чащобы фактов, — суть не что иное, как короткие передышки, небольшие паузы, divertissements, которые писатель предоставляет самому себе. Для того, чтобы дать выход поэтическому чувству, переполняющему его грудь. С одной стороны. А с другой — он не в силах противостоять стремлению, свойственному любому писателю, достойному этого звания, — стремлению мифологизировать реальность.
Выше я заметил, что общество, описанное Прустом, — это лишь часть всего французского общества. Другой его части тоже грех жаловаться на отсутствие усердных летописцев, снискавших всеобщее признание. В отличие от прустовской, она вовсе не собирается отходить в мир иной и проживет еще немало лет. Мало того: благодаря своим органическим свойствам она обновляется и совершенствуется изо дня в день. Возможно, именно здесь кроется причина, по которой летописцам этого живого и цветущего общества не удалось добиться значимости и славы Пруста. Покуда жив оригинал, неизвестно, как быть с его изображением. Однако, как таковые, летописцы этой части французского общества, на мой взгляд, не уступают Прусту. У наших соседей их хоть пруд пруди: тут тебе и романисты, и новеллисты; и все они — в известной мере летописцы. Даже не знаешь, кого именно привести в пример. И все же из этой ватаги я бы выделил двух писателей, которые представляются мне наиболее одаренными: Тристана Бернара и Анри Дюверуа[61]. Первый создал своими «Похождениями благовоспитанного молодого человека»[62] Великую Хартию французской буржуазии; второй в многочисленных своих рассказах отразил не меньше сторон французского общества, да так тонко, умело и правдиво, что книги его составляют достойный тандем с картинами Альбера Гийома[63] — живописца истории и нравов, этого «классического» Домье.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вся жизнь"
Книги похожие на "Вся жизнь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Альберто Савинио - Вся жизнь"
Отзывы читателей о книге "Вся жизнь", комментарии и мнения людей о произведении.