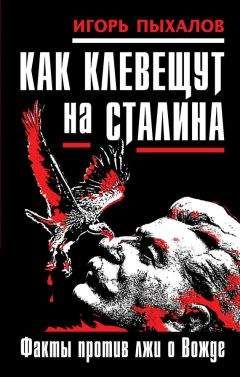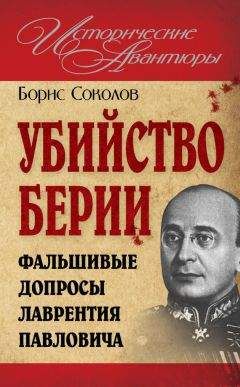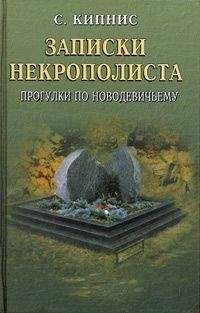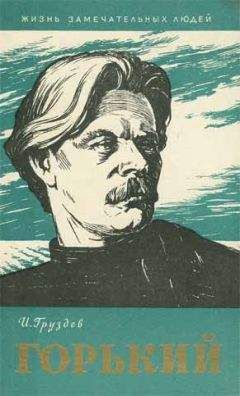Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мозаика еврейских судеб. XX век"
Описание и краткое содержание "Мозаика еврейских судеб. XX век" читать бесплатно онлайн.
Книга историка литературы Бориса Фрезинского содержит 31 сюжет. Их герои — люди как общеизвестные (Соломон Михоэлс, Натан Альтман, Илья Ильф или Василий Гроссман), так и куда менее знаменитые. Все они жили в XX веке — веке мировых катастроф — и работали преимущественно на территории Российской империи или СССР. Книга не случайно начинается с повествования об убийстве Соломона Михоэлса — знакового для советской эпохи преступления, обнажившего начало нового политического курса Сталина…
Как всякие мемуары, они немало скажут об их авторе — человеке умном и предельно честном, любящем литературу, а не себя в ней. А ведь сила военного опыта сама по себе еще не защищала от искушений — посмотрите, куда пришли иные из товарищей Лазарева, начинавшие под общим с ним знаменем…
Нельзя не вспомнить и книгу веселых и точных пародий Лазарева, Рассадина и Сарнова «Липовые аллеи», и редакторскую работу Л. И. в кино (он был редактором «Андрея Рублева», «Соляриса» и «Зеркала» — редактором, который многим помог Тарковскому)…
Есть в воспоминаниях Лазарева такой эпизод. Умер Твардовский, и Лазарева вызвали в секретариат Союза писателей срочно написать некролог от имени ЦК. Он написал его быстро, но одна загвоздка возникла — поэма «Теркин на том свете» запрещена, упоминать ее бессмысленно: все равно вычеркнут, нужно найти такой способ напомнить о ней, чтобы цековские идеологи проглядели, а внимательные читатели — нет. Лазарев бился долго и придумал: он написал, что Твардовский создал образ бессмертного Теркина. Некролог напечатали, но этого слова в нем не оказалось — аппаратчики замысел раскусили. Сколько таких мучительных боев было проиграно, у многих опускались руки, воздадим должное тем, кто продолжал сопротивление…
В конце 1999 года вышла книга Л. Лазарева «Шестой этаж». В ней три раздела: собственно «Шестой этаж» — воспоминания о работе в «Литературной газете» в 1950-е годы; «Время и судьбы» (воспоминания о В. Некрасове, К. Симонове, А. Аграновском, Б. Слуцком, Б. Балтере, А. Адамовиче, А. Тарковском и М. Галлае — сам перечень героев этого раздела говорит об авторе мемуаров) и «Записки пожилого человека» (точнее, начало этих записок, над которыми автор продолжает работать). На фронтисписе книги крупно набраны слова: «Мемуаристы склонны героизировать себя и свое время. Постараюсь не впасть в этот грех». У всех знающих Лазаря Ильича эти его слова должны были вызвать одну и ту же мысль: стараться и не надо, ибо если кому сей грех и не свойственен органически, так это именно Л. И. Лазареву — точному, справедливому, обаятельному и одновременно сдержанному человеку.
В нынешнее, переходное неизвестно куда, время не книги определяют жизнь общества; невозможно, однако, представить себе разумное будущее страны без читателей, ибо именно книги помогают не распасться «связи времен». Подъем на «Шестой этаж» Лазарева — полезная и поучительная работа души. Во всяком случае, для всех, кто понимает: честно описанный опыт того, как в душных условиях тоталитаризма можно было оставаться порядочными людьми, даже служа на «идеологическом фронте», для России был и будет важен. Этот опыт именно потому поучителен, что, независимо от качества политического фона, жизнь неизменно ставит перед человеком нравственные проблемы и списывать со счетов опыт предшественников неразумно. Для будущих историков книга Лазарева незаменима — в ней всё правда, и это не столько даже свойство его памяти, сколько природа характера: скажем, уже написав о работе в «Литературке», Л. И. скрупулезно проверял себя, пролистывая и подшивки газеты, и архивные документы редакции. Не знаю сегодня другого писателя, чьим воспоминаниям так безоговорочно можно было бы доверять.
Писать о человеке, который продолжает активную жизнь в литературе, и писать так, чтобы написанное сразу же не требовало дополнений, — дело едва ли не безнадежное.
Лазарю Ильичу Лазареву — за восемьдесят. И он по-прежнему бессменный, замечательный главный редактор «Вопросов литературы» (несколько поколений авторов журнала не представляют себе «Воплей» без него) и постоянный автор «Знамени» (не случайно его «Знаменские» заметки к шестидесятилетию Победы были, можно сказать, единственными честными и единственными всерьез в многоголосом и, признаемся, в общем-то пустословном хоре того мая).
Самое последнее время принесло нам две книги Лазаря Ильича, которые можно назвать главными.
Одна — давно ожидавшаяся читателями книга работ о литературе об Отечественной войне. Она названа симоновской строчкой «Живым не верится, что живы», и на обложке ее выписаны столбцом имена героев: Эренбург, Твардовский, Симонов, Гудзенко, Некрасов, Слуцкий, Бакланов, Окуджава, Адамович, Гранин, Богомолов, Кондратьев, Быков, Гроссман. Здесь нет ни одного случайного, незаслуженного имени. Это честные страницы истории нашей литературы об Отечественной войне (вернее, той ее части, которая достойна темы). «Живым не верится, что живы» читается не как сборник отдельных статей, а именно как книга. Причем книга — современная (не в смысле безответственности и беспардонности словес, характерных для теперешних писаний по истории, а в смысле современного знания о войне, оснащенного не только личным опытом автора, прошедшего войну с первых дней, но и пониманием новых исторических документов о той войне, крайне медленно, но неминуемо выходящих на волю из архивных казематов).
Вторая книга — расширенное и дополненное издание воспоминаний «Записки пожилого человека». В ней две части. Первая названа строчкой из Галича: «Уходят, уходят, уходят друзья» (портреты друзей и товарищей, где к печатавшимся прежде добавлены Окуджава, Ортенберг, Василь Быков и очерк о встречах «По заданию редакции» — встречах с Ахматовой, Эренбургом, Гроссманом и Твардовским). Вторая часть, названная давними словами Пастернака «Это было при нас», — мозаика мемуарных сюжетов и эпизодов о событиях давнего и недавнего прошлого, сюжетов живых и емких…
Человек, верный долгу и памяти, Лазарь Ильич Лазарев продолжает свою работу. В самое последнее время им были написаны воспоминания о Фридрихе Горенштейне — большом писателе и очень нелегком человеке, в литературной судьбе которого Лазарев сыграл, без преувеличения, исключительную роль. Я прочел их, не отрываясь; это не просто рассказ о знакомстве и встречах с героем и о его честных и серьезных книгах. Это емкий и многокрасочный портрет, написанный внимательным и понимающим человеком. Признаемся, не часто попадаются увлекательные мемуары, вызывающие полное доверие к их достоверности. Спрашивается: а могут ли вообще мемуары быть абсолютно правдивыми и в то же время увлекательными? Может ли мемуарист, безусловно симпатизируя своему герою, в то же время не замалчивать его откровенно непривлекательные черты? Мемуары Лазарева отвечают на эти вопросы утвердительно. Более того, его страницы о Фридрихе Горенштейне хочется назвать образцовыми — они предельно честны, не приукрашивают героя и не упрощают его и притом вызывают несомненную к нему симпатию и внимание, интерес к его книгам. И, заметим попутно, мемуарист нисколечко не выпячивает себя, свое присутствие, свою роль; в его тексте не найти того красного словца, ради которого иным авторам никак не избежать соблазна приврать, сместить акценты…
Планы Лазаря Ильича, слава Богу, перманентно пополняются. Будем ждать осуществления его новых работ…
Л. И. Лазарев
Обложка книги статей Л. Лазарева (Москва, 2007)
Случай Бенедикта Сарнова
4 января 1927 года в Москве произошло много разных событий. Неожиданно отступила зима, и ударила полная оттепель с дождями.
Ю. Ларин веселил читателей «Правды» догадками о том, что было бы, победи оппозиция («Сталина, — писал он, — отправили бы послом в Персию»…). В Доме ученых кремлевский медик профессор Левин читал лекцию «О судебной ответственности врачей за профессиональные ошибки» (через 11 лет его расстреляли за «отравление» Горького). У Мейерхольда играли «Ревизора». Алиса Коонен потрясала зрителей в «Любви под вязами», а Михоэлс — в «Траудеке». В Колонном зале Дома Союзов демонстрировали чудо из Германии — «говорящий фильм». Три писательских союза объединились в федерацию, а пестователь советской литературы А. К. Воронский в клубе рабкоров прочел доклад «Как учиться писать художественные произведения».
О том, что в этот день в Москве родился Бенедикт Сарнов, газеты, понятно, не сообщили, хотя сегодняшние читатели его книг понимают: не случись этого, палитра нашей литературы лишилась бы яркой и сильной краски.
Как критик Сарнов раскрылся в годы «оттепели». Его работа в «Литературной газете» не была скрыта от читателей: острыми статьями она выходила на газетные полосы. Занявшие два номера «ЛГ» заметки Сарнова «Если забыть о часовой стрелке» (о стихах Евтушенко и Вознесенского) имели очевидный резонанс. Не отрицая дара молодых кумиров публики, Сарнов говорил: «Их словесная игра не обеспечена реальностью переживания и подобна деньгам без золотого запаса». В ответ А. Дымшиц, всю жизнь плясавший на чужой свадьбе, сигнализировал: «Порочный критик, игнорирующий марксистско-ленинские критерии, куда опаснее незрелых поэтов».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мозаика еврейских судеб. XX век"
Книги похожие на "Мозаика еврейских судеб. XX век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Фрезинский - Мозаика еврейских судеб. XX век"
Отзывы читателей о книге "Мозаика еврейских судеб. XX век", комментарии и мнения людей о произведении.