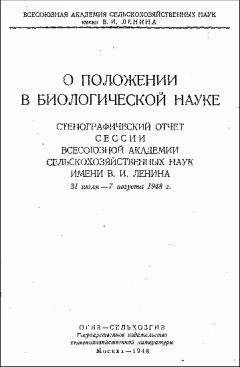Николай Копосов - Хватит убивать кошек!

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Хватит убивать кошек!"
Описание и краткое содержание "Хватит убивать кошек!" читать бесплатно онлайн.
Критика социальных наук — это ответ на современный кризис гуманитарного знания. Социальные науки родились как идеология демократии, поэтому их кризис тесно взаимосвязан с кризисом современного демократического общества. В чем конкретно проявляется кризис социальных наук? Сумеют ли социальные науки найти в себе ресурсы для обновления или им на смену придет новая культурная практика? В книге известного историка Н. Е. Копосова собраны статьи и рецензии, посвященные истории и современному состоянию социальных наук, и прежде всего — историографии. В центре внимания автора — формирование и распад современной системы основных исторических понятий.
Трудность положения Филиппова отчасти связана с тем, что проблематику глобальной истории ему пришлось разрабатывать в региональной монографии[304]. Конечно, глобальная история и региональная монография совместимы и даже предполагают друг друга, как показал опыт французской историографии 1960-х гг. Но для этого необходимо, чтобы существовала общепринятая модель глобальной истории, включая схемы интеграции региональных исследований в глобальную историю. Книга Филиппова позволяет оценить способность современной марксистской историографии интегрировать «осколки» глобальной истории в целостную картину.
Та часть глобальной модели, которая непосредственно требуется Филиппову, — это, конечно, модель феодализма. Верный проблематике своих учителей, Филиппов все же не готов в полной мере положиться на их теоретическое наследие. К марксистской историографии у него есть претензии — «нерешенность и даже запущенность некоторых теоретических проблем изучения исторического процесса и неадекватность используемого при этом понятийного аппарата» (с. 4). Обвинение звучит грозно, но фактически сводится к смешению экономических и правовых категорий при изучении имущественных отношений. По сути дела Филиппов ставит своей целью «дальнейшее развитие» марксистской социально-экономической истории с того момента, когда это развитие застопорилось в 1970-е гг. перед лицом триумфальной истории ментальностей.
Решить эту задачу он считает возможным, очистив «классический марксизм» от привнесенных в него Сталиным искажений. Очищение (с. 550–558) происходит в диалоге с советскими политэкономами (автор так и говорит: политэкономия) и состоит в требовании отличать отношения собственности от производственных отношений. Отношения собственности есть форма отражения производственных отношений в сознании людей — именно поэтому они лучше отражены в источниках. Задача историка — «отправляясь от отношений собственности, раскрыть через них конкретно-историческую специфику производства» (с. 557). Однако если собственность является «исходной категорией анализа», то «исходной категорией анализируемой системы» остается все-таки способ производства.
Это рассуждение лежит в основе одного из самых впечатляющих достижений Филиппова — тщательного анализа в седьмой главе римского права и его раннесредневековых модификаций. Автор показал разнообразие форм обладания имуществом, свойственных римскому праву (а попутно и упрощенный характер обычного понимания римской собственности как полной и неограниченной, т. е. близкой к современной), равно как и постепенное зарождение новых правовых представлений; к концу XI в. они складываются в завершенную систему феодальной собственности, которую автор характеризует как «общеродовую, корпоративную, условную и иерархическую» (с. 753). Именно единый тип собственности создавал единство феодального общества — мысль важная и заслуживающая дальнейшей разработки.
Вспомним, однако, что, по Филиппову, собственность — это не более чем «исходная категория анализа». Тем не менее модель феодальных производственных отношений не выводится автором из анализа отношений собственности, но строится независимо от него. При этом Филиппов расходится с Марксом, для которого сутью феодального хозяйства оставалась барщинная эксплуатация крестьян. По Филиппову, главное отличие феодального хозяйства от рабовладельческого состоит в следующем: в античности рабовладелец, выступавший организатором производства и, следовательно, распорядителем всего произведенного продукта, оставлял себе весь прибавочный продукт и даже часть необходимого продукта, в то время как в Средние века крестьянин, игравший центральную роль в организации производства (сосредоточенного теперь на крестьянском участке), имел возможность оставлять себе не только необходимый продукт, но и часть прибавочного. Поэтому феодализм и оказался «прогрессивнее» рабовладения.
Для обоснования этой модели нужны, естественно, опоры в материале. Они имеются только частично. Филиппов убедительно показал, что мелкое крестьянское хозяйство было преобладающей в Средиземноморской Франции раннего Средневековья экономической формой. Выглядит правдоподобным (хотя недостаточно подкреплено сравнительным материалом) и утверждение, что «нормальным для феодальной экономики было индивидуальное хозяйствование экономически самостоятельных крестьян» (с. 738), в то время как барщинное хозяйство являлось, скорее, исключением.
Более проблематичен тезис о том, что крестьяне оставляли себе часть произведенного ими прибавочного продукта. Приводимый цифровой материал слишком фрагментарен и не подкрепляет его. Автору приходится оценивать уровень эксплуатации крестьян, «исходя из логики функционирования крестьянского хозяйства и феодальной экономики в целом» (с. 734). Иными словами, в центральном пункте модель обосновывается на самой себе: если бы крестьянин не оставлял себе части прибавочного продукта, то средневековое общество не было бы способно к развитию. А раз оно развивалось, значит, у крестьянина оставались излишки. Рассуждение разумное, но слишком общее и поэтому мало что говорящее нам об уровне эксплуатации именно южно-французских крестьян раннего Средневековья. Для того же, чтобы стать основой модели феодального способа производства, оно должно быть подкреплено данными по другим периодам и регионам, более полными и репрезентативными. Разрыв между отдельными элементами модели средневековой экономики, предлагаемыми Филипповым, и имеющимся в его распоряжении локальным и фрагментарным материалом в данном случае оказывается слишком значительным.
Еще более проблематично объяснение того, почему крестьяне имели возможность оставлять себе часть произведенных излишков. Ответ Филиппова на этот вопрос в состоянии повергнуть в ужас более ортодоксальных марксистов: дело в том, что «общество признавало за крестьянином право на весомую долю прибавочного продукта», поскольку понимало, что доля эта реинвестируется в производство (с. 742). Как следствие «положение южно-французского крестьянства в целом было относительно благополучно», что и объясняет «почти полное отсутствие известий о межклассовых конфликтах» (там же). Нельзя, конечно, с порога отказывать «примитивным обществам» в «спонтанной рациональности», но желательно подкрепить подобный вывод анализом характерных для упомянутого общества представлений о ценности крестьянского труда, взаимных обязанностях общественных групп и т. д. Предлагаемая Филипповым схема не может обойтись без обращения к ментальности, но ментальность остается целиком за рамками его исследования, скованного как марксистской традицией, так и жанровыми особенностями региональной монографии по социально-экономической истории.
Таковы предложенные Филипповым элементы общей теории феодализма. Очевидно, что речь идет именно об отдельных элементах модели, которых — даже если многие из них выглядят вполне убедительно — недостаточно, чтобы организовать слишком фрагментарный материал. Когда же автор отсылает читателя к другим элементам марксистской модели феодализма и, шире, марксистской глобальной истории, то эти отсылки не срабатывают. Отчасти дело в том, что модель феодализма, с которой пытается работать автор, — это очень частичная, «политэкономическая» модель. В особенности это бросается в глаза при анализе того, как Филиппов понимает механизмы исторической каузальности. Вот что он пишет по поводу причин генезиса феодализма:
«Ни кризис III века, окунувший Галлию в пучину гражданских войн и первых варварских вторжений; ни кардинальные реформы Диоклетиана и Константина; ни начавшаяся в то же время массовая христианизация общества; ни агония империи и возникновение на ее территории варварских государств; ни новые волны варварских вторжений… ни междоусобицы меровингских и вестготских правителей… ни колоссальная встряска, вызванная вторжением арабов… ни широкомасштабные… преобразования первых Каролингов… ни приватизация властных функций государственными чиновниками и крупными землевладельцами… ни григорианская реформа… ни первый Крестовый поход… ни эти, ни другие вехи региональной и общеевропейской истории… не были ни главными причинами, ни даже столь уж важными факторами трансформации античного общества в феодальное» (с. 745).
«Бесконечно медленный, подспудный, приземленный» процесс феодализации шел как бы сам собой, повинуясь исключительно своей внутренней логике. Стержнем этого процесса была трансформация античной латифундии в феодальное поместье. Мы имеем дело с теорией, согласно которой существует логика саморазвития хозяйства. Подобная теория нуждается как минимум в четкой модели исторической каузальности. Марксизм такую модель имел, пусть и внутренне противоречивую, поскольку никогда не мог выбрать между развитием производительных сил и классовой борьбой. Ни одно, ни другое объяснение Филиппова не удовлетворяет. Он, по-видимому, склоняется к третьему: через улучшение условий жизни непосредственного производителя. Но, как мы видели, логика объяснения причин такого улучшения ведет за пределы социально-экономической истории. По этому пути автор не может зайти слишком далеко, не отказавшись от своей методологии. Поэтому он и ограничивается невнятными отсылками к идее саморазвития. Марксизм Филиппова — это марксизм, лишенный модели исторической каузальности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хватит убивать кошек!"
Книги похожие на "Хватит убивать кошек!" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Копосов - Хватит убивать кошек!"
Отзывы читателей о книге "Хватит убивать кошек!", комментарии и мнения людей о произведении.